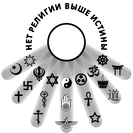письмо № 29; раздел: Раздел 3: Испытание. Ученичество
| от кого: | Мориа | написано из: – |
|
кому: |
Синнетт Альфред Перси, Хьюм Алан Октавиан | получено в: Симла, Индия |
содержание: Махатма М. о Хьюме. Восточный менталитет. О Кут Хуми. О месторасположении главного Ашрама Махатм. Неадекватное восприятие Хьюмом писем Махатм; его несправедливая критика в их адрес. О Хьюме. Гордыня Хьюма как его главный моральный недостаток.
Письмо № 29[1]
Ответ на ваше письмо у меня, по-видимому, получится довольно пространным. Для начала могу сообщить вам следующее: то, как м-р Хьюм думает и говорит обо мне, заслуживает внимания лишь в той мере, в какой это влияет на его собственное умонастроение, при котором он предполагает обращаться ко мне в ходе обучения его философии. Мне нет никакого дела до того, питает он ко мне уважение или нет, как и ему до того, доволен я им или нет. Но, оставляя в стороне вопрос его внешней ершистости, я в полной мере признаю за ним доброту намерений, наличие способностей и его потенциальную полезность. Пора бы нам уже по-настоящему, без лишних разговоров взяться за дело, и если он проявит упорство, то я всегда готов прийти к нему на помощь — но только не льстить и не спорить.
Он настолько не понял ни духа моей памятной записки, ни приписки к ней, что, не свяжи он меня в последние три дня долгом глубокой благодарности за всё, что он делает для бедной моей постаревшей чела́,[2] я никогда не взял бы на себя труд писать то, что может показаться то ли извинением, то ли объяснением, то ли и тем, и другом вместе. Но, как бы то ни было, долг благодарности для меня столь свят, что только ради неё я сейчас делаю то, что отказался бы делать даже ради Общества: с любезного разрешения сахибов я ознакомлю их с некоторыми фактами. О наших индо-тибетских обычаях пока мало что знают даже самые великомудрые английские сановники. Сведения, которые я представлю вам, могут оказаться полезными в наших последующих действиях. Буду откровенен и честен перед вами, и м-ру Хьюму придётся извинить меня за это. Коль скоро я уж принужден высказаться, то придётся говорить либо всё, либо — ничего.
Я не столь искусен по учёной части, сахибы, как благословенный Брат мой, но, тем не менее, полагаю, что знаю истинную цену слову. А коль это так, то я никак не могу взять в толк, что же именно в моём постскриптуме вызвало у м-ра Хьюма такую иронию и раздражение в отношении меня? Ютясь в своих жалких лачугах, мы, индо-тибетцы, никогда не ссоримся друг с другом (это ответ вам на некоторые мысли, высказанные в письме на эту тему). Ссоры и даже обсуждения мы оставляем тем, кто неспособен оценить положение вещей с первого взгляда, а потому вынужден принимать окончательное решение по любому поводу лишь после того, как проанализирует и взвесит каждую подробность ещё и ещё раз, снова и снова. А поэтому всякий раз, как европейцу представляется, будто мы — по крайней мере, те из нас, кто является дикшитами,[3] — “не вполне уверены в приводимых нами фактах”, то происходить это может в силу следующей особенности. То, что большинство людей считают “фактом”, в наших глазах может оказаться лишь простым следствием, неким домысливанием, недостойным нашего внимания, ибо нас, как правило, интересуют только первичные, исходные факты.
Жизнь, почтенные сахибы, даже если её продлить на неопределённо долгий срок, всегда окажется слишком краткой, чтобы обременять наши мозги ещё и какими-то быстротечными деталями — ничтожными мелькающими тенями. Наблюдая за течением бури, мы останавливаем свой взор прежде всего на произведшей её Причине, а тучи оставляем на милость формирующих их ветров. Поскольку у нас под рукой всегда есть средства, чтобы — при острой необходимости — приглядеться и к мелким деталям, то всё внимание мы уделяем только главным фактам. А значит, мы едва ли способны абсолютно ошибаться — в чём зачастую вы нас обвиняете, — ибо заключения наши мы никогда не делаем на основании вторичных данных, а рассматриваем ситуацию в целом.
Обычный же человек — даже из числа самых больших интеллектуалов — всё внимание своё отдаёт вещам чисто внешним, одной только наружной форме, он лишён способности проникать a priori[4] в суть вещей, а потому чаще всего и склонен выносить неверные суждения о ситуации в целом и обнаруживает свои ошибки лишь с большим опозданием.
В обстановке сложнейших политических интриг и споров, а также того, что вы, если не ошибаюсь, называете великосветскими беседами и дискуссиями, софистика превратилась сегодня в Европе (а значит, и в среде англо-индийцев) в “упражнение интеллекта в логике”. У нас же она никакого распространения не получила и так и осталась тем, чем была изначально — “пустым рассуждением”, при котором в большинстве случаев из шатких, ненадёжных посылок извлекаются, формулируются и тут же скоропалительно закрепляются выводы и суждения.
Мы, невежественные азиаты-тибетцы, привыкли следить скорее за мыслью своего собеседника или корреспондента, чем за теми словами, в которые эта мысль бывает облачена, — нас, как правило, мало волнует точность в выражениях. Однако это моё предисловие, очевидно, уже кажется вам и маловразумительным, и бесполезным, и у вас, вероятно, уже готов вопрос: “А к чему это он клонит?” Прошу у вас немного терпения, ибо прежде, чем я приступлю к заключительному разъяснению, мне нужно сказать вам ещё несколько слов.
За несколько дней до своего ухода Кут Хуми, говоря о вас, обратился ко мне со следующими словами: “Я уже бесконечно устал от всех этих вечных словопрений. Чем больше я пытаюсь им обоим поведать о тех обстоятельствах, что довлеют над нами и ставят множество препятствий на пути свободного общения между нами, тем меньше они меня понимают! Даже при самом благоприятном течении событий эта переписка неспособна никого ни в чём убедить, она лишь время от времени будет приводить к вспышкам раздражения. Полностью убедить их может только одно: личные беседы, во время которых мы могли бы обсуждать возникающие по ходу дела интеллектуальные затруднения и находить быстрые способы их разрешения. Мы как будто стоим перед непроходимой пропастью, каждый на своей стороне, и пытаемся докричаться друг до друга, и при этом только один из нас способен видеть своего собеседника. В физической природе, пожалуй, не сыскать горной бездны, столь же безнадёжно непроходимой и неприступной для путника, как эта духовная бездна, не позволяющая им пробиться ко мне”.
А два дня спустя, когда уже было принято решение о его уходе в обитель, он, прощаясь со мной, попросил: “Ты не присмотришь за моими делами? Без меня, боюсь, всё может рассыпаться в прах”. Я ему пообещал. Да я готов был пообещать ему всё на свете в эту минуту!
Есть высоко в горах одно место, которое держится в тайне от чужаков. Там пролегает огромная пропасть, через которую перекинут хрупкий мостик, сплетённый из горных трав, а под ним бурлит неистовый шумный поток. Даже самому отчаянному из ваших альпинистов вряд ли достанет смелости ступить на тот мост, ибо висит он, словно тонкая паутина, и, кажется, сделай лишь шаг по нему, и он тут же оборвётся — таким непрочным и непроходимым представляется он на первый взгляд. Но это не так. И тот, кто не дрогнет перед таким испытанием, и успешно пройдёт его — а он пройдёт, если заслуживает того, чтобы ему это позволили — окажется в ущелье удивительной красоты: это одно из тех наших мест, где проживают некоторые из нас, но обо всём этом не сказано ни единого слова ни в одном из отчётов европейских географов. На расстоянии одного броска камня от старинного ламасерия стоит древняя башня, в таинственных недрах которой вызрело не одно поколение бодхисатв.
Именно там сегодня и покоится безжизненное тело вашего друга — моего брата, света души моей, которому я твёрдо пообещал проследить за его работой, пока он будет отсутствовать. И вот я спрашиваю вас: могу ли я, его верный друг и собрат, буквально два дня спустя после его ухода в ту обитель, ни с того, ни с сего выказать неуважение к его европейским друзьям? Что заставило вас так думать, что за идея пришла в голову м-ра Хьюму и даже Вам? Как можно было настолько не понять и превратно истолковать смысл какой-то пары слов? И сейчас я вам это докажу.
Не кажется ли вам, что, если бы вместо выражения “стал ненавидеть” было написано: “стал вновь испытывать вспышки неприязни” или “какое-то время досадовал”, то одна лишь эта фраза удивительным образом изменила бы последствия всего дела? Будь эта фраза изложена в таком виде, у м-ра Хьюма едва ли нашлись бы основания отвергать факт столь же категорично. Ибо здесь он был бы совершенно прав, а ошибкой явилось бы неверно выбранное слово. Мы не погрешили бы против истины, признав, что чувство ненависти вообще ему незнакомо. Остаётся лишь посмотреть, станет ли он возражать против этого утверждения в целом. Он ведь сам признался в том, что был “раздосадован”, а Е.П.Б. вызывала у него “чувство недоверия”. И эта “досада”, которую он более уже не станет отрицать, продолжалась у него несколько дней? Так в чём же тогда он видит искажение?
Допустим даже, что действительно было выбрано неверное слово. Но коли он столь уж разборчив в выборе слов, так усердствует в том, чтобы они всегда несли в себе верный смысл, то почему того же правила не придерживается он сам? То, что можно было бы простить азиату, несовершенному в английском языке или, по указанным выше причинам, не привыкшему тщательно выбирать выражения, коль скоро его соплеменники просто не могут неверно его понять, становится непростительным для просвещённого и в совершенстве владеющего литературным слогом англичанина.
В своём письме Олкотту он пишет: “Он (то есть "я" — М∴) и она (Е.П.Б.) или оба вместе так запутались и так неверно поняли смысл нашего с Синнеттом письма, что в результате мы получили совершенно несуразный ответ, способный породить одно лишь недоверие”.
Прошу покорнейше ответить мне на такой вопрос: когда это либо я, либо она, либо мы оба могли видеть, читать, а стало быть “запутаться и неверно понять” упомянутое письмо? Каким образом могли она или я запутаться в том, чего она никогда не видела, а я, поскольку не имею ни желания, ни права заглядывать или вмешиваться в дело, касающееся лишь Чохана и К.Х., никогда не обращал на него ни малейшего внимания? Она вам не говорила, что в упомянутый день я просил её зайти в комнату м-ра Синнетта именно в связи с вашим письмом? Я сам присутствовал там, уважаемые сахибы, и могу повторить каждое слово, которое она там произнесла. “Что это такое? . . . Что вы творите, и что вы такое сказали К.Х.,” — прокричала она в обычной своей возбуждённой и нервной манере м-ру Синнетту, который тогда был в комнате один, — “что могло так разозлить М∴ (она произнесла моё имя)? Он велел мне немедленно паковать свои вещи и готовиться к переезду на Цейлон, чтобы устроить там штаб-квартиру!” Таковы были её первые слова, которые ясно указывают на то, что ничего определённого она не знала, никто ей ни о чём не сообщал, и она лишь строила собственные догадки на основании моих слов.
А сказал я ей перед этим лишь следующее: во-первых, ей следует готовиться к худшему, и, вообще, будет лучше, если она переберётся на Цейлон, чем и дальше делать из себя посмешище и дрожать над каждым присланным ей письмом для передачи К.Х. А во-вторых, я заявил ей, что если только она не научится владеть собой, то я положу конец всему этому почтовому (“дак”) предприятию. Слова мои не относились ни к вашему, ни к чьему бы то ни было ещё письму, они вообще были не о письме, а вызваны они были тем, что я заметил сгущавшуюся над ней и новым Эклектическим обществом ауру — она была чёрной и предвещала беду. Вот почему я и попросил её сообщить об этом м-ру Синнетту, а не м-ру Хьюму. Слова мои самым нелепым образом расстроили её (вследствие её неуёмного темперамента и из-за расшатанных нервов), а затем последовала известная сцена. Может быть, это из-за терзающих её видений крушения теософского дела, порождённых расстроенным её мозгом, она теперь и обвиняется — за компанию со мной — в том, что якобы запуталась и неверно поняла письмо, которого даже не видела в глаза?
Есть ли в утверждении Хьюма хотя бы одно-единственное слово, которое можно было бы назвать точным, — слово “точный” я применяю к фактическому смыслу всей фразы, а не просто к отдельным словам, — я оставляю на суд умов, превосходящих азиатский. И если только мне будет позволено поставить под сомнение точку зрения человека, столь значительно превосходящего меня и по образованности, и по уму, и по остроте восприятия вечной гармонии вещей в мире, то я хотел бы спросить: в чём заключается “абсолютная неправота” моих следующих слов: “Я заметил также внезапное нарастание неприязни (или, скажем, досады), порождённой недоверием (как признаётся сам м-р Хьюм, то же самое выражение он использовал и в своём ответном письме Олкотту — пожалуйста, сравните с приведённой выше цитатой из его письма), в тот день, когда я попросил её зайти в комнату м-ра Синнетта и передать ему послание от меня”. Что здесь не так? И далее: “Им хорошо известна её возбудимость и неуравновешенность, но эта враждебность с его [Хьюма — перев.] стороны почти граничила с жестокостью. Он не только перестал говорить с ней, но и по целым дням не удостаивал её даже своим взглядом, причиняя тем самым острую и ненужную боль её сверхчувствительной натуре! Однако он всё отрицал, когда м-р Синнетт заметил ему об этом. . .” С этой последней фразы начиналась страница 7, на которой я припомнил ему и многое другое, — однако я удалил эту страницу со всем остальным (вы можете найти подтверждение этому у самого Олкотта, который скажет вам, что изначально там было 12 страниц, а не 10, и это письмо он отправил вам с изложением всех тех подробностей, которых теперь вы в письме не видите, однако он не знает ни того, что я сократил это письмо, ни причин, по которым я это сделал. Не желая напоминать м-ру Хьюму о том, что сам он уже давным-давно забыл, да и поскольку всё это не имеет прямого отношения к делу, я удалил эту страницу и стёр с остальных многое другое. Его отношение с тех пор изменилось, и я был доволен этим).
По словам м-ра Хьюма, ему “ни жарко, ни холодно” от того, приятно мне или неприятно его отношение ко мне. Но речь сейчас идёт не об этом — гораздо важнее, имел ли он действительно веские основания написать Олкотту то, что он ему написал: что будто бы я напрочь не разобрался в его истинных чувствах. Я бы сказал, таких оснований он не имел. Помешать мне испытывать “досаду” он не в силах точно так же, как я не могу, как бы ни старался, изменить его нынешних чувств: ведь “ему ни жарко, ни холодно от того, приятно мне или неприятно его отношение ко мне”. Всё это напоминает мне какие-то детские игры. Тот, кто стремится узнать, каким образом он может принести пользу человечеству, и полагает себя способным читать характеры других, должен прежде всего научиться понимать самого себя и уметь трезво оценивать собственный характер. А вот этому-то, позвольте заметить, он так и не научился.
Помимо этого, ему необходимо научиться понимать, в каких конкретно случаях следствия могут в свою очередь становиться важными первопричинами, то есть когда следствие становится гьен.[5] Ненавидь он её самой лютой ненавистью, он не мог бы причинить её простодушно чувствительным нервам столько подлинных страданий, как в том случае, когда, по его словам, “он всё ещё любит дорогую старушку”. Он всегда поступал так с теми, кого больше всего любил, и безотчётно для себя будет не раз ещё поступать так и в дальнейшем. Но, тем не менее, первым же его побуждением будет отрицать всё это, поскольку это действительно происходит у него совершенно непроизвольно — исключительная доброта его сердца в такие минуты напрочь ослепляется и парализуется другим чувством, которое — скажи ему только об этом — он будет также отрицать.
Нимало не смущаясь эпитетами, которыми он меня наградил — “гусь” и “Дон-Кихот”, — я, верный обещанию, данному Благословенному моему Брату, расскажу ему [Хьюму — перев.] об этом, хочет он этого или нет. Теперь, когда он высказал все свои чувства начистоту, нам остаётся либо научиться понимать друг друга, либо порвать отношения навсегда. И это вовсе не “полускрытая угроза”, как он сам выражается, ибо “человек угрожает — что собака лает”, всё это дело пустое.
М-р Хьюм должен знать следующее: если только он не осознает, сколь непригодна для нас та мерка, по которой он привык судить о принадлежащих к его кругу людях Запада, то будет одинаково бесполезно для меня или для К.Х. пытаться его обучать, а для него — учиться у нас, это будет лишь пустая трата времени. Мы никогда не считаем “угрозой” исходящее от друга предупреждение, и без гнева относимся к нему, когда оно обращено к нам. Вот он говорит, что лично ему всё равно и “Братья могут порвать отношения с ним хоть завтра”, но тем важнее для нас прийти к взаимопониманию. М-р Хьюм гордится тем, что “чувство трепета” у него вызывали только его собственные абстрактные идеалы. Нам об этом прекрасно известно. Но он, вероятно, и не мог бы испытывать никакого трепета ни к кому и ни к чему, поскольку весь трепет, на который способна его натура, сосредоточен лишь на его собственной персоне. Таков факт и такова главная причина всех его жизненных невзгод.
Когда множество его высокопоставленных “друзей”, как и члены его собственной семьи, говорят, что он задирает нос, то они ошибаются и говорят сущий вздор. Он слишком утончённый интеллектуал для того, чтобы задирать нос: он, совершенно безотчётно для себя, являет собой не что иное, как воплощение гордыни. Он не испытывал бы никакого трепета даже перед своим Богом — если бы этот бог оказался не его собственным творением и детищем, и вот по этой-то самой причине он и неспособен прийти в согласие ни с одним известным учением, он не примет ни одной философии, если та не выйдет, уже во всеоружии, подобно греческой Сарасвати (или Минерве)[6] из его собственного — отцовского — мозга. Этим объясняется и то, что во время его краткого ученичества у меня я отказался от мысли давать ему что-либо ещё, кроме полурешений, намёков и загадок, распутывать которые должен был он сам. В самом деле, только в этом случае я и мог его убедить, ибо его собственная исключительная способность схватывать на лету суть вещей в этом случае ясно доказывала ему, что иначе и быть не может, поскольку его решение точь-в-точь совпадало с тем, что именно он полагал математически точным. Если же он укорял — причём так несправедливо! — К.Х., к которому питает действительно самые горячие чувства, в излишней обидчивости из-за того де, что он, м-р Хьюм, якобы не проявляет достаточной почтительности к нему, то лишь потому, что в своём воображении сам же и нарисовал себе портрет моего брата по собственному своему образу и подобию.
М-р Хьюм укоряет нас за то, что мы относимся к нему de haut en bas![7] Знать бы ему, что в наших глазах и сапожник, и царь занимают абсолютно равное положение, если и тот, и другой одинаково честны, а какой-нибудь аморальный дворник стоит даже выше и вызывает у нас больше сочувствия, чем такой же аморальный владыка империи, то он не стал бы нести подобный вздор.
М-р Хьюм жалуется (тысяча извинений — “смеётся”, вот более точное слово) на то, что мы якобы хотим подмять его под себя. Замечу вам со всем почтением, что дело обстоит как раз vice versa.[8] Именно м-р Хьюм (опять-таки непроизвольно и подчиняясь привычке, которой он не изменял всю свою жизнь) весьма неуклюже пытался проделать это с моим братом в каждом письме, которое он писал Кут Хуми. Когда же брат мой заметил и мягко указал ему на появление в письмах некоторых выражений, свидетельствующих о таком яростном духе самоутверждения и самоуверенности, который уже достигал апогея человеческой гордыни, он тут же перевернул весь смысл своих фраз и, обвинив К.Х. в неверном их понимании, стал про себя называть его самого надутым и “вздорным”.
Так что же, готов ли я обвинять его в несправедливости, нечестности и в ещё худших грехах? Нет и ещё раз нет! Гималаи не знали ещё более честного, искреннего и добросердечного человека. Я знаю за ним такие поступки, о которых и ведать не ведают ни члены его семьи, ни даже собственная его супруга — и поступки эти столь благородны, столь добросердечны и столь великодушны, что даже собственная его гордыня молчит, ослеплённая их подлинным масштабом. Поэтому что бы он ни сделал или ни сказал — ничто не в силах приуменьшить того чувства уважения, которое я питаю к нему. Но при всём при этом я принужден высказать ему правду, и если эта сторона его характера вызывает у меня одно только восхищение, то гордыня его никогда не заслужит от меня одобрения. Впрочем, заметим ещё раз, всё это он и в грош не ставит, да это и не так уж важно на самом деле.
Наичестнейший и наиискреннейший человек во всей Индии, м-р Хьюм совершенно не выносит противоречия, и ни в ком другом — будь то простой смертный или дэва — он ни за что не признает безропотно тех же достоинств искренности, какие присутствуют в нём самом. И ничто в этом мире не заставит его признать, что кто-либо другой может разбираться лучше его в том, что исследовал он сам и о чём сформировал собственное суждение.
“Они не хотят заниматься совместной работой наилучшим, как мне представляется, образом,” — жалуется он на нас в своём письме Олкотту, и одна эта фраза содержит в себе ключ ко всему его характеру — она даёт нам самое ясное представление о том, что творится у него глубоко в душе. Имея, как он думает, право считать, что с ним обошлись пренебрежительно и несправедливо, отказавшись — “невеликодушно” и “эгоистично” — работать под его руководством, он не может в глубине души не считать себя в высшей степени уступчивым и бескорыстным человеком, который готов не гневаться за наш отказ, а, наоборот, “согласен следовать их (то есть нашим) путём”. И проявление такого неуважения с нашей стороны к его мнению не может доставлять ему большой радости, а потому в нём растёт чувство великой обиды, которое становится тем сильнее, чем больший “эгоизм” и “вздорность” мы выказываем со своей стороны. Отсюда и его разочарование, и та искренняя боль, которую он переживает, обнаружив, что Ложа и все мы так далеки от того идеала, который сложился у него в голове.
Его смешат мои старания взять под защиту Е.П.Б., и, давая волю чувству, недостойному его натуры, он, к сожалению, забывает, что это именно она, его своеобразная натура, как раз и даёт его друзьям и врагам основание называть его “заступником голытьбы” и награждать другими такими же именами, и враги его всегда готовы припомнить ему лишний раз аналогичные прозвища.
Нимало не смущаясь издевательским подтекстом подобных эпитетов, его рыцарский дух, не раз подвигавший его на защиту всех слабых и угнетённых и на исправление бесчинств, творимых его коллегами, — как, например, в недавнем скандале с муниципалитетом в Симле — покрыл его неувядаемой славой, сотканной из слов благодарности и любви к нему со стороны людей, которых он так бесстрашно защищает.
Вы оба находитесь под странным впечатлением, будто нас может и в самом деле обеспокоить то, что о нас говорят или думают. Выбросьте эти мысли из головы! Ведь первое, что требуется даже от простого факира, — это тренированное с годами умение оставаться равнодушным как к душевной боли, так и к физическим страданиям. Нам ничто неспособно доставить ни личного горя, ни личной радости. И говорю я вам это затем, чтобы вы усвоили самое трудное в нашей науке: мы не такие, как вы.
То, что м-р Хьюм — движимый чувством столь же мимолётным, сколь и скоропалительным, находясь во власти растущего раздражения против меня, коего он обвинил в желании “подмять его под себя”, — намеревался отомстить мне своей ироничной, а следовательно, и (для европейского уха) издевательской ремаркой в мой адрес, не является никаким секретом, как секретом не является и то, что он явно промахнулся. Не зная, а вернее, позабыв о том, что мы, азиаты, начисто лишены того особого чувства юмора, которое толкает западные умы выставлять в самом обидном и нелепом виде все высочайшие, наиблагороднейшие устремления человечества, он использовал слова, в которых я мог бы прочитать скорее комплимент для себя, чем что-либо иное, будь я ещё в состоянии обижаться или радоваться от того, что говорят обо мне в миру. Моя раджпутская кровь никогда не позволит мне оставаться безучастным, когда на моих глазах задевают чувства женщины — будь она даже простой “визионеркой” и пусть даже её чувство обиды теперь называют очередной “блажью” её “воспалённого сознания” — здесь я просто обязан выступить в её защиту, а м-р Хьюм наслышан о наших традициях и обычаях достаточно хорошо, чтобы не забывать: наша, во всех других отношениях измельчавшая, раса ещё хранит в себе дух рыцарства по отношению к женщине. А посему я говорю: надеялся ли он на то, что его колкие слова попадут в цель и ранят меня, или понимал, что воздействовать на меня таким образом всё равно, что пытаться взывать к гранитному столпу — в любом случае подвигнувшие его на это чувства были недостойны более благородной и высокой стороны его натуры, и если в первом случае его чувство можно было бы назвать лишь мелким чувством мести, то во втором действия его можно было бы расценить лишь как ребячество.
Вот, например, в своём письме к О[лкотту] он то ли жалуется, то ли осуждает (прошу простить меня за мой скудный запас английских слов) нашу “полускрытую угрозу” порвать с вами всякие отношения — эту угрозу он якобы разглядел в наших письмах. Ну как можно настолько ошибаться? Мы намерены порвать с ним ничуть не больше, чем какой-нибудь правоверный индус готов покинуть дом своих гостеприимных хозяев раньше, чем ему сообщили о том, что в его обществе больше не нуждаются. Однако стоит только намекнуть ему об этом, и он тут же уйдёт. Так и мы.
М-р Хьюм любит с гордостью повторять, что у него лично нет никакого желания увидеть нас воочию, ему ничуть не любопытно встретиться с нами, что философия наша и обучение не принесут ему никакой пользы, поскольку он уже изучил и знает всё, что только можно изучить; что ему вообще всё равно, порвём мы с ним навсегда или нет и меньше всего он думает о том, довольны мы им или нет.
Так всё-таки qui bono?[9] Между его мыслями о той почтительности, которой, как ему представляется, мы ждём от него, и той ничем не вызванной воинственностью, которая в любой день может у него перерасти в затаённую, но вполне реальную, враждебность, пролегает чернота бездны, и нет никакой середины, которую мог бы разглядеть даже Чохан. Да, сегодня его [Хьюма — перев.] нельзя упрекнуть в том, что, как в прошлом, он действует безоглядно к обстоятельствам, не принимает в расчёт наших особых правил и законов, и, тем не менее, он неизменно мчится к той чёрной границе дружеской добросердечности, за которой прекращается всякое доверие, а весь горизонт затмевают одни лишь мрачные подозрения и превратные впечатления. Как было всегда и как пребудет всегда, и сейчас, и присно я останусь рабом, безропотно исполняющим свой долг перед Ложей и человечеством. И не только потому, что меня так учили, но я и сам стремлюсь подчинять любое своё предпочтение к кому бы то ни было лишь одному: любви к людям. А она не приносит барышей, и потому напрасно было бы обвинять меня или кого-либо из нас в эгоизме, в желании видеть в вас одних только “жалких пелингов[10]” и заставлять вас “трусить на осликах”, поскольку мы, дескать, не в состоянии найти для вас достойных скакунов.
И Чохан, и К.Х., и я сам всегда оценивали м-ра Хьюма по достоинству. Он оказал неоценимую услугу и Теос. общ-ву, и Е.П.Б., и один только способен превратить Общество в действенное орудие для творения блага. Когда духовной его душе ничто не мешает управлять им, во всём свете не найти человека более чистого, благородного и добросердечного. Когда же в своей непомерной гордыне поднимает в нём голову его пятый принцип[11], мы всегда это заметим и будем готовы противостоять. Да, я остался глух, например, к его замечательному мирскому совету о том, как нам следует снабдить вас доказательствами нашей реальности или как вам должно организовать совместную работу в наилучшем для него ключе, и я буду и дальше оставаться столь же глух до тех самых пор, пока не получу приказания об обратном.
Что же касается вашего последнего письма (м-ра Синнетта), то вы можете облачать свои идеи в самые наиприятнейшие фразы, но не удивляйтесь (а м-р Синнетт пусть не огорчается) тому, что я более не разрешу ни одного феномена и, кроме того, ни один из нас более не сделает ни одного шага вам навстречу. Здесь я не могу ничего поделать и, каковы бы ни были последствия, это моё решение останется неизменным до тех пор, пока Брат мой не вернётся в этот мир живых. Как вам хорошо известно, оба мы любим свою страну и свой народ и видим в Теос. обществе огромный потенциал возможностей для улучшения его положения, если Общество окажется в надёжных руках. Брат мой радостно приветствовал включение м-ра Хьюма в нашу работу, а я дал его участию высокую — ровно такую, какую он заслуживает — оценку. Поэтому вы должны понимать одно: всё, что мы могли бы сделать для того, чтобы связывающие вас и нас узы стали ещё теснее, мы сделаем от всего сердца. Вместе с тем, если выбор встанет между строжайшим выполнением любых указаний нашего Чохана относительно того, когда именно мы вправе видеться с каждым из вас; что́ именно мы вправе писать вам, каким образом и куда, с одной стороны, и утратой вашего доброго мнения о нас или даже вашей враждебностью к нам и срывом работы Общества, с другой, — то здесь мы не засомневаемся ни на минуту.
Всё это вы можете считать неразумным, эгоистичным, вздорным и нелепым, вы можете обозвать его иезуитским и вину за такие решения возлагать целиком на нас, но у нас закон есть закон, и никакая сила в мире не заставит нас отклониться от своего долга ни на йоту. Мы предоставили вам возможность получить всё, что вы желали получить, мы усилили ваш магнетизм, указали вам на более высокий идеал как на цель вашей работы, а м-ру Хьюму мы объяснили то, что он уже и так знал без нас, — каким образом он может принести ничем не измеримую пользу миллионам своих собратьев по человечеству.
Выбор стоит только за вами. Вы уже сделали его, я знаю, — но что касается м-ра Хьюма, то он ещё может не раз изменить свою позицию. Я останусь верным своей группе и данному мной обещанию, что бы он по этому поводу ни думал. При этом мы не можем не отметить того, что он уже пошёл на огромные уступки — уступки, в наших глазах, тем более огромные, что его стало меньше интересовать наше существование, а насилие, которое он теперь совершает над своими чувствами, объясняется лишь его надеждой осчастливить человечество. Никто на его месте не использовал бы нынешнего положения вещей с такой пользой для дела, и никто лучше него не отстоял бы декларацию о “первоочередных задачах” на заседании 21 августа,[12] хотя, “доказывая туземной общине, что представители правящего класса” также стремятся проводить в жизнь полезные проекты Т.О., он одновременно рассчитывает в ответ получить разъяснения наших метафизических истин. Он уже сделал чрезвычайно много полезного, ничего пока не получив взамен. Да он, собственно говоря, ничего и не ожидает.
Напоминаю вам, что это моё письмо является ответом на все ваши письма, все ваши возражения и предложения, и к сказанному могу лишь добавить, что вы совершенно правы и, невзирая на всю вашу “приземлённость”, благословенный мой Брат определённо питает подлинное уважение и к Вам, и к м-ру Хьюму, который (я с радостью это вижу) также испытывает тёплые чувства к нему [К.Х. — перев.]. Однако Вы не похожи на м-ра Хьюма, который слишком “горд для того, чтобы рассчитывать на наше покровительство в виде награды для себя”.
Вот только в одном Вы, милостивый государь мой, ошибаетесь сейчас и будете неизменно ошибаться в дальнейшем: Вы полагаете, будто наши феномены могут в любой момент стать “могучим средством”, способным потрясти основы заблуждений, господствующих в интеллектуальном мире Запада. Однако как бы Вы ни старались, убедить Вы сможете лишь того, кто и без того привык глядеть на мир незашоренным взглядом. Вы однажды сказали: “Убедите нас, а мы убедим весь мир”. Сегодня Вы располагаете убедительными доказательствами, и каковы же результаты? И ещё я хочу, чтобы Вы крепко-накрепко запомнили одно: мы не хотим, чтобы м-ру Хьюму или Вам удалось когда-нибудь убедительно доказать широкой публике факт нашего реального существования. Прошу Вас, поймите: пока люди сомневаются, у них остаётся место для любопытства и вопросов, а вопросы подстёгивают работу мысли, из которой могут родиться усилия. Если же тайна наша станет чем-то обыденным и заурядным, то это не принесёт особой пользы не только недоверчивому обществу, но и создаст постоянную угрозу нашей частной жизни, и нам придётся пойти на неоправданные затраты сил для обеспечения непрерывной её защиты.
Терпение, друг моего друга! У м-ра Хьюма ушли долгие годы на то, чтобы перебить множество птиц и в конце концов написать свою книгу, а ведь он не мог приказать им немедленно покинуть свои убежища в листве деревьев, ему приходилось выжидать, пока они не явятся к нему сами и не позволят ему изготовить из себя чучела и наклеить на них соответствующие ярлыки. Вот точно так же наберитесь терпения и в общении с нами. Ах, сахибы, сахибы! если бы вы только могли точно так же аккуратно распределить нас по видам и подвидам, повесить нужную бирку и выставить нас в Британском музее — вот только тогда, пожалуй, мир ваш обрёл бы наконец абсолютное, засушенное подтверждение истины.[13]
Итак, всё опять возвращается на круги своя и, как обычно, приходит к своему началу. Вы продолжаете гоняться, в поисках нас, среди собственных призраков, то и дело пытаясь уцепиться за ускользающее видение, но это вас ничуть не приближает к нам, вы всё так же не в силах избавиться от мертвящей власти сомнений, которые, как змей, лежат сейчас у вас под пятой и будут так же взирать в ваши очи в грядущем. Боюсь, всё так и будет продолжаться до окончания главы, ибо у вас нет терпения дочитать книгу до конца. Вы пытаетесь проникнуть в суть духовного, глядя на него глазами плоти, вы силитесь согнуть несгибаемое, следуя в этом грубому образцу, существующему лишь у вас в голове, а когда вам это не удаётся, то вы уже почти что готовы разбить и самый образец, и тогда — прощайте, прекрасные грёзы!
А теперь в заключение ещё несколько пояснительных слов. Та записка О[лкотта], которая привела к столь катастрофических последствиям и беспримерному вопросу qui proquo,[14] была написана 27 числа. А в ночь с 24 на 25 мой возлюбленный брат сообщил мне, что слышал, как м-р Хьюм, находясь в комнате у Е.П.Б., сообщил ей, что сам он ни разу не слышал от О[лкотта] ни слова о том, что он, О[лкотт], когда-нибудь лично видел нас, но если бы Олкотт рассказал ему об этом, то, полностью доверяя ему, он целиком бы поверил его словам. После этого он, К.Х., попросил меня явиться к О[лкотту][15] и велеть ему рассказать обо всём, полагая, что м-ру Хьюму, возможно, будет приятно узнать об этом в каких-либо подробностях. Желания К.Х. для меня — закон. Вот почему м-р Хьюм и получил от О[лкотта] то самое письмо — причём к этому времени все его прежние сомнения уже улеглись. Доставив своё послание О[лкотту], я одновременно удовлетворил его любопытство по поводу вашего Общества и изложил свои мысли на этот счёт. О[лкотт] попросил у меня разрешение отправить вам эти комментарии, на что я дал ему добро. Вот вам и весь секрет.
По личным своим соображениям я решил, что вы должны узнать о том, что я думаю об этой ситуации, спустя буквально несколько часов после того, как мой возлюбленный Брат покинул этот мир. Когда же письмо это дошло до вас, мысли мои уже несколько изменились, и я, как сказал выше, значительно исправил ту записку. Стиль О[лкотта] так рассмешил меня, что я добавил к записке свой постскриптум, в котором обращался к одному только Олкотту, но м-р Хьюм, тем не менее, принял эти мои слова на собственный счёт!
Забудем об этом. На этом я завершаю самое длинное письмо, какое когда-либо писал в своей жизни. Сделал я это ради К.Х. — а потому я удовлетворён. Хотя м-р Хьюм может полагать и иначе, но “эталон Адепта” хранится не в Симле, а в —— ——, и я стараюсь соответствовать ему, невзирая на всю ничтожность своих попыток овладеть эпистолярным жанром.
М∴
| Предыдущее письмо № 102 | Оглавление | Следующее письмо № 36 |
|---|---|---|
Сноски
- ↑ Сам. № 26, КА № 29. Это письмо М. адресовано одновременно А.П.С. и А.О.Х. Получено в Симле в октябре 1881 г. (RG, 85) (примеч. перев.).
- ↑ Речь, возможно, идёт о следующих обстоятельствах, предшествующих настоящему письму. В своём номере от 3 сентября 1881 г. орган английских спиритуалистов, газета “Субботнее обозрение” (“The Saturday Review”), выступила с нападками на Е.П.Б. и Олкотта, назвав их “беззастенчивыми авантюристами”. Хьюм написал в их защиту статью, которую газета полностью проигнорировала, но которая была позднее опубликована в “Приложении” к журналу “Теософист” в декабрьском номере за 1881 год и в январском за 1882 год (RG, 85-86) (примеч. перев.).
- ↑ Дикшита (санскр.) — посвящённый (G. de Purucker, ETG) (примеч. перев.).
- ↑ Вне или независимо от опыта (лат.) (примеч. перев.).
- ↑ “Гьен (Kyen) — причина, которая сама есть следствие предыдущей причины или какой-то первопричины”. Более подробно об этом см. ниже: Приложение № 2. Космологические комментарии. См. также: A Tibetan-English Dictionary by Rai Sarat Chandra Das. Bahadur, C.I.E., Calcutta, 1902, p. 80: rkyen, “сопричина” (the co-operative cause) (примеч. перев.).
- ↑ В Греции она известна под именем Афины Паллады. Сарасвати (санскр.) — божественная супруга Брахмы, его женское альтер эго. Позднее — форма или аспект Вач (гласа или Слова), Третьего Логоса в Греции и в Индии. Параллельным ей образом является Бат Кол (дочь гласа, дочь Слова) в иудейской мистической мысли: её можно воспринимать либо в качестве женского аспекта самого Логоса, либо в качестве его дочери — проистекающего из Логоса вдохновения, то есть понимать её как женский аспект, носитель Логоса. Сарасвати — богиня тайного знания и эзотерической мудрости. Она обычно изображается сидящей верхом на павлине, при этом у павлина распущен хвост. Аналогична Софии гностиков, Сфире каббалистов-иудеев и Святому Духу христиан (G. de Purucker, ETG) (примеч. перев.).
- ↑ Сверху вниз (фр.) (примеч. перев.).
- ↑ Наоборот (лат.) (примеч. перев.).
- ↑ Cui bono? — Кому это нужно? (лат.) (примеч. перев.).
- ↑ Чужестранцев (примеч. перев.).
- ↑ Манас, ум (примеч. перев.).
- ↑ В этот день было организовано Эклектическое теософское общество Симлы (RG, p. 87) (примеч. перев.).
- ↑ Любопытно, что именно в Британском музее сегодня и хранятся оригиналы писем Махатм (RG, p. 87) (примеч. перев.).
- ↑ Quid pro quo (лат.) — услуга за услугу, “баш на баш”. См. также Письмо № 28 (примеч. перев.).
- ↑ В это время Г.С.О. находился на Цейлоне (примеч. перев.).