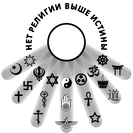Наследие Е.П.Б.: Труды • Письма • Альбомы • Произведения с участием • Изображения • Биография • Цитаты • Разное | дополнения – вопросы – исправления – задачи
ССЕПБ, том 1, стр. 151-162; ССЕПБ 1:151-162; BCW 1:151-162 • Альбомы 1:81-83; SB 1:81-83 • О странице
| Информация о произведении | |
|
Неразгаданная тайна
(английский: Helena Petrovna Blavatsky, An Unsolved Mystery) (ноябрь 1875) Опубликовано без подписи.
Публикации:
Известные переводы:
Читать оригинал: Внешние ссылки:
ДАННЫЕ Название для ссылок: Блаватская Е.П. - Неразгаданная тайна
| |
151
[Spiritual Scientist, том III, от 25 ноября 1875г., стр. 133-135]
Обстоятельства, сопровождавшие внезапную смерть месье Делессера (Delessert), инспектора сыскной полиции произвели, по-видимому, такое впечатление на парижские власти, что они описаны и засвидетельствованы во всех необычайных подробностях. Опуская частности, кроме тех, что необходимы для изложения сути дела, мы воспроизводим здесь эту, без сомнения, странную историю.
Осенью 1861 года в Париже появился человек, который представился как Вик де Ласса, и это же имя было вписано в его паспорт. Он прибыл из Вены и сообщил, что он венгр и владеет землями на границах Баната недалеко от Зенты. Это был человек небольшого роста, лет тридцати пяти, с какой-то загадочностью на бледном лице, с длинными светлыми волосами, с рассеянным, блуждающим взглядом голубых глаз и с необычайно твёрдо очерченным ртом. Одевался он небрежно и без претензий на эффект, а речь не отличалась подчёркнутой любезностью. Контрастируя с ним, его спутница, предположительно, жена, была лет на десять моложе его и поразительно красива той смуглой, роскошной, бархатистой, сочной венгерской красотой, в которой явно ощущалось присутствие цыганской крови. В театрах, в Булонском лесу, в кофейнях, на бульварах – повсюду, где развлекался праздный Париж, мадам Эми де Ласса привлекала к себе всеобщее внимание и вызывала сенсацию.
Они поселились в роскошных апартаментах на Рю де Ришелье, часто появлялись в самых лучших домах, устраивали приёмы с приглашением приятного общества, развлекались, не считаясь с расходами, и вели себя во всех отношениях так, как если бы владели значительным состоянием. Чета Ласса всегда имела приличный счёт в банкирском доме Шнайдер, Ройтер и Ко, австрийском банке на Рю де Риволи, а блеск их бриллиантов неизменно бросался в глаза.
Как же тогда случилось, что префект полиции счёл возможным заподозрить месье и мадам де Ласса и назначил Поля Делессера, одного из самых дотошных из всех инспекторов, «не спускать глаз» с него? Суть в том, что этот невзрачный человек со своей блистательной супругой был весьма таинственной личностью, а полиции свойственно предполагать, что таинственность всегда скрывает или участника преступного сговора, афериста, или шарлатана. Вывод, к которому пришёл префект полиции 152в отношении месье де Ласса, был таков, что он является аферистом, а также и шарлатаном. К тому же, несомненно, успешным, ибо он отличался исключительной ненавязчивостью и ни в коей мере не трубил о своих чудесах, совершать которые он считал своим предназначением; тем не менее, спустя несколько недель после того как месье де Ласса обосновался в Париже, интерес к его салону возрос до повального увлечения, а количество людей, готовых платить 100 франков, чтобы один раз торопливо всмотреться в его магический кристалл и получить одно сообщение посредством его спиритического телеграфа, поистине, приводило в изумление. Секрет был в том, что месье де Ласса слыл чародеем и прорицателем, претендовавшим на всеведение, чьи предсказания всегда сбывались.
Делессеру не составило большого труда быть представленным и получить приглашение в салон де Ласса. Приёмы устраивались через день и длились два часа по утрам и три часа вечером. Инспектор Делессер пришёл вечером под вымышленным именем месье Флабри, представившись коллекционером ювелирных изделий и неофитом Спиритуализма. Он увидел красивые, ярко освещённые залы и очаровательное собрание, состоявшее из преисполненных довольства гостей, которые вовсе не выглядели пришедшими ради того, чтобы узнать свою судьбу или рок, хотя и способствуя, в то же время, увеличению дохода их гостеприимного хозяина, но скорее находились там из почтения перед его добродетелями и талантами.
Мадам де Ласса наигрывала что-то на фортепьяно или общалась коротко с гостями, переходя от одной группы к другой, поддерживая восхитительное настроение, в то время как месье де Ласса то прохаживался, то сидел, равнодушный, по своему обыкновению, ко всему, ничем не озабоченный, бросая время от времени слово, но делая вид, что не видит в сказанном ничего необычного. Слуги разносили закуски, мороженое, ликёры, вина и прочее, и Делессеру могло показаться, что он, говоря вообще, заглянул на вполне благопристойный званый вечер, если не считать одну-две примечательные подробности, которые не ускользнули от его внимательных глаз.
За исключением тех моментов, когда их хозяин или хозяйка могли их слышать, гости объединялись в беседе, разговаривая тихими голосами несколько таинственно и без того часто раздающегося смеха, какой бывает обычным в подобных обстоятельствах. Время от времени очень высокий, преисполненный собственной значимости ливрейный лакей подходил к какому-либо гостю и с глубоким поклоном передавал ему карту на серебряном подносе. Тогда гость 153выходил вслед за шествующим с торжественным видом лакеем, но когда он или она возвращались в салон – некоторые не возвращались вовсе – все они неизменно несли на себе признаки потрясения и озадаченности; они выглядели смущёнными, изумлёнными, напуганными или приятно удивлёнными. Всё это настолько не вызывало сомнений в подлинности действа, а де Ласса и его жена казались до такой степени беспечными, если не сказать несхожими со всем происходящим, что Делессеру не удалось избежать невольного потрясения и ощущения большого замешательства.
Двух–трёх небольших происшествий, разыгравшихся непосредственно на глазах у Делессера, будет достаточно, чтобы прояснить природу впечатлений, которые испытывали на себе приглашённые. Двое молодых гостей, оба джентльмены, оба с положением в обществе и явно очень близкие друзья, вели непринуждённую беседу между собой, обращаясь друг к другу на «ты», когда величавый лакей вызвал Альфонса. Тот весело рассмеялся. «Обожди минуту, дорогой Огюст, – сказал он, – и ты узнаешь все подробности моей удивительной судьбы!» «Идёт! – ответил Огюст, – да будет оракул настроен благодушно!» Не прошло и минуты как Альфонс возвратился в салон. Лицо его было бледно и отражало такой лютый гнев, что на него было страшно смотреть. Его глаза метали молнии, когда он шёл прямо на Огюста, и, приблизившись к своему другу, который изменился в лице и отшатнулся, он прошипел тому прямо в лицо: «Месье Лефебр, вы подлец!» «Прекрасно, месье Меньё, – ответил Огюст также вполголоса, – тогда завтра в шесть утра!» «Договорились, вероломный друг, мерзкий предатель! [Драться] Насмерть!» – произнёс в ответ Альфонс и пошёл прочь. «Само собой разумеется!» – пробормотал Огюст, направляясь за шляпой.
Слуга с поклоном пригласил к оракулу известного дипломата, представлявшего в Париже одно из соседних государств, пожилого джентльмена, очень уверенного в себе, импозантного и с весьма внушительной внешностью. После примерно пятиминутного отсутствия он возвратился и немедленно направился сквозь толчею к месье де Ласса, стоявшему около камина, держа руки в карманах, и с выражением полного безразличия на лице. Делессер, стоявший неподалёку, очень внимательно и с живым интересом наблюдал эту встречу. «Я 154чрезвычайно сожалею, – сказал генерал фон –––, что вынужден так спешно покинуть ваш интересный салон, месье де Ласса, но итог моего сеанса таков, что я убедился в тайной подделке моих депеш». «Очень жаль», – ответил месье де Ласса, выражая всем своим видом вялую заинтересованность из вежливости. «Надеюсь, вы сумеете выяснить, кто из ваших служащих предатель». «Это я и собираюсь сделать сейчас, – сказал генерал, добавив многозначительно: – Я прослежу, чтобы и он и его сообщники не ушли от сурового наказания». «Только так и следует поступить, месье граф». Посол замер с изумлённым взором, поклонился и распрощался, унося на лице выражение замешательства, тактично скрыть которое было выше его сил.
В ходе приёма месье де Ласса подошёл, как бы невзначай, к фортепьяно и после нескольких заурядных, невыразительных прелюдий, исполнил удивительно впечатляющее произведение, в котором буйство жизни и увлекающая сила вакхических напевов мягко, почти незаметно переходили в скорбное рыдание раскаяния и томления, и усталости, и отчаяния. Исполнение было прекрасным и произвело огромное впечатление на гостей. Одна из дам воскликнула: «Как восхитительно, как печально! Это Вы сочинили, месье де Ласса?» На какой-то миг он задержал на ней рассеянный взгляд и ответил: «Я? О, нет! Это просто реминисценции, мадам». «Знаете ли Вы, кто сочинил это, месье де Ласса?» – осведомился находившийся там некий коллекционер. «Я полагаю, это оригинальное произведение Птолемея Авлета (Ptolemy Auletes), отца Клеопатры, – промолвил месье де Ласса в своей индифферентной, задумчивой манере, – но не в его нынешнем виде. Оно дважды перерабатывалось, насколько я знаю; тем не менее, музыкальная тема, в основном, та же самая». «От кого же Вы получили его, месье де Ласса, позвольте спросить?» – упорствовал джентльмен. «Непременно! Непременно! Последний раз я слушал его в исполнении Себастьяна Баха; но нынешнее было переложением Палестрины. Я же предпочитаю его в переработке Гвидо Аретинского – оно примитивнее, но в нём больше силы. Я получил мелодию от самого Гвидо». «Вы... от Гвидо?» – воскликнул изумлённый джентльмен. «Да, месье», – ответствовал де Ласса, вставая от инструмента с обычным для него равнодушным видом. «Боже мой!» – вскричал коллекционер, хватаясь рукой за голову, напоминая 155мистера Твемлоу. «Боже мой! Ведь это было в 1022 году от рождества Христова!» «Чуть позже – в июле 1031 года, если мне не изменяет память», – вежливо поправил месье де Ласса.
В этот момент высокорослый лакей остановился с поклоном перед месье Делессером и протянул ему серебряный поднос с картой. Делессер взял её и прочёл: «Вам предоставлено, самое большее, тридцать пять секунд, месье Флабри!» Делессер проследовал за лакеем из салона по коридору. Слуга открыл дверь в другую комнату и, ещё раз поклонившись, дал понять, что Делессеру следует войти туда. «Не задавайте вопросов, – сказал он коротко, – Араб нем». Делессер вошёл в комнату, и дверь за ним закрылась. Это было небольшое помещение, всё пропитанное сильным запахом благовоний. Стены были сплошь задрапированы красными портьерами, которые скрывали также и окна, а на полу лежал мягкий ковёр. На стене напротив двери, высоко под потолком, находился циферблат больших часов; под часами, освещённые большими восковыми свечами, стояли два маленьких стола: на одном был аппарат, сильно напоминавший обычный телеграфный самописец, на другом – хрустальный шар около двадцати дюймов в диаметре, помещённый на изящной ковки треногу из золота и бронзы. У двери стоял Араб, чёрный, как уголь, в белой чалме и бурнусе и с чем-то вроде серебряного жезла в одной руке. Другой он взял Делессера за правую руку выше локтя и быстро провёл по комнате. Он указал на часы, и они пробили предупреждающе; он указал на кристалл. Делессер наклонился, взглянул в него и увидел – факсимиле своей собственной спальни, сфотографированное во всех подробностях. Араб не оставил ему времени на восклицания, а, продолжая держать его за руку, подвёл к другому столу. Похожий на телеграф аппарат застрекотал. Араб выдвинул ящичек, извлёк из него бумажную ленту, вложил её Делессеру в руку и указал на часы, которые опять пробили. Тридцать пять секунд истекли. Араб, всё ещё удерживая Делессера за руку, указал на дверь и повёл его к ней. Дверь отворилась, Араб вытолкнул его прочь, дверь захлопнулась, ливрейный великан уже стоял с поклоном, общение с оракулом закончилось. Делассер бросил быстрый взгляд на 156бумажную ленту в руке. Это было напечатанное заглавными буквами послание бесхитростного содержания: «Месье Полю Делессеру: полицейский всегда приветствуется; соглядатай всегда в опасности!»
Делессер испытал минутное ошеломление, осознав, что его маскировка раскрыта, но слова ливрейного лакея: «Сюда, будьте любезны, месье Флабри», привели его в чувство. Крепко сжимая рот, он вернулся в салон и, не мешкая, отыскал месье де Ласса. «Вам известно содержание сего?» – спросил он, протягивая ему сообщение. «Мне известно всё, месье Делессер», – ответил де Ласса в своём небрежном стиле. «Тогда, быть может, вы осознаёте, что я намереваюсь разоблачить шарлатана и сорвать маску с лицемера или умереть в случае неудачной попытки?» «Мне это безразлично», – ответил де Ласса. «Значит, вы принимаете мой вызов?» «О, так это вызов? – ответил де Ласса, позволив себе задержаться ненадолго взглядом на Делессере, – ну, конечно, я принимаю!» И с этим Делессер удалился.
И вот Делессер взялся за работу при поддержке всех сил, какие префект полиции только мог придать ему в помощь, чтобы расследовать преступление и разоблачить этого виртуозного фокусника, с которым наши предки, исполняя более жёсткие судебные предписания, разобрались бы без труда – сожжением на костре. Настойчивое расследование убедило Делессера в том, что этот человек не был венгром, и звали его не де Ласса; что, независимо от того, насколько далеко в глубь веков может проникать его способность к «реминисценциям», в его настоящем и непосредственном облике он был рождён в этом грешном мире в городе кукольных дел мастеров Нюрнберге; что мальчиком он отличался замечательной способностью к изготовлению искусных поделок, но был необузданного нрава и слыл непутёвым юношей. На шестнадцатом году он сбежал в Женеву и нанялся в учение к механику и часовых дел мастеру. Там его видели в обществе знаменитого Робера Удена фокусника-манипулятора. Уден, оценив таланты юноши, и будучи сам конструктором хитроумных автоматических устройств, взял его в Париж, в свои мастерские, а также сделал ассистентом для публичных демонстраций своих занимательных и удивительных дьявольских проделок. Проведя несколько лет с Уденом, Пфлок Хазлих (таково было настоящее имя де Ласса) отправился на Восток в составе свиты турецкого паши 157и после многолетних скитаний в странах, в которых невозможно отыскать его следы, скрытые завесой множества псевдонимов, оказался в Венеции и оттуда прибыл в Париж.
Далее Делессер переключил своё внимание на мадам де Ласса. Подобраться к её прошлому оказалось намного труднее, но это было необходимо, чтобы получить достаточные сведения о Хаслихе. Наконец, помог случай, и возникло предположение, что мадам Эми идентична некой мадам Шлафф, довольно известной даме полусвета в Буде. Делессер отправился на перекладных в этот древний город, а оттуда – в дебри Трансильвании, в Медиаш. На обратном пути, как только он добрался до телеграфа и цивилизации, он телеграфировал префекту из Карцага: «Не спускайте глаз с моего подопечного; и не выпускайте его из Парижа. Я загоню его в угол за пару дней, как только вернусь».
Случилось так, что в день, когда Делессер вернулся в Париж, префект отсутствовал – был с императором в Шербуре. Он вернулся на четвёртый день, ровно через сутки после сообщения о смерти Делессера. Насколько можно было судить, это произошло так: после своего возвращения, в тот же вечер Делессер был в салоне у де Ласса с входным билетом на сеанс. Он полностью изменил свою внешность, замаскировавшись под дряхлого старика, полагая, что никто не опознает его. Несмотря на это, когда его отвели в комнату, и он заглянул в кристалл, его, поистине, охватил ужас от увиденной картины – там был он сам, лежащий ничком и без сознания на тротуаре; а в предсказании, которое он получил, было сказано следующее: «То, что вы увидели, Делессер, произойдёт через три дня. Готовьтесь!» Детектив, в состоянии неописуемого потрясения, тотчас покинул этот дом и устремился к своему жилищу.
Утром он пришёл на службу в крайне подавленном настроении. Он был совершенно без сил. На вопрос собрата-инспектора о том, что случилось, он ответил: «Этот человек исполняет обещанное. Я обречён!»
Он сказал, что готов предъявить полностью доказанные факты, обвиняющие Хаслиха, он же де Ласса, но не может сделать этого, не встретившись с префектом и не получив распоряжений. Он ни за что не хотел 158рассказывать о разоблачительных открытиях в Буде и в Трансильвании – говорил, что он не вправе сделать это – и постоянно восклицал: «О, если бы только господин префект был здесь!» Ему советовали поехать к префекту в Шербур, но он отказывался под тем предлогом, что его присутствие необходимо в Париже. Он снова и снова твердил, что убеждён в своей обречённости, и в его поведении проявлялись и неуверенность, и нерешительность, и крайняя нервозность. Его уверяли, что он в полной безопасности, поскольку де Ласса и все его домочадцы находятся под постоянным наблюдением, на что он отвечал: «Вы не знаете этого человека». Одному из инспекторов было поручено сопровождать Делессера, не спускать с него глаз ни днём, ни ночью и охранять его со всем тщанием; были также предприняты соответствующие меры предосторожности в отношении его пищи и напитков, в то же время охрана де Ласса была усилена вдвое.
На третий день утром Делессер, остававшийся почти всё время дома, заявил о принятом им решении срочно идти и телеграфировать господину префекту, чтобы тот немедленно возвращался. С этой целью он и сопровождавший его сослуживец отправились в путь. Как только они дошли до угла Рю де Ланкри и Бульвара, Делессер внезапно остановился и приложил руку ко лбу.
«Боже мой! – вскричал он, – Кристалл! изображение!» и упал ничком без чувств. Его сразу же доставили в больницу, но там он лишь медленно, в течение нескольких часов, отходил в мир иной, так и не придя в сознание. По срочному распоряжению властей было проведено самое тщательное, доскональное и полное вскрытие тела Делессера несколькими известными хирургами, по чьему единодушному мнению причиной смерти был апоплексический удар вследствие усталости и нервного возбуждения.
Как только Делессер был отправлен в больницу, его сослуживец поспешил в Главное Управление, и де Ласса, его жена и все, имеющие отношение к его заведению, были сразу же арестованы. Де Ласса презрительно улыбался, когда его уводили. «Я знал о вашем приходе; я к нему приготовился. К тому же вы будете рады отпустить меня».
Это была истинная правда: де Ласса был готов к встрече. 159При обыске его жилища обнаружилось, что все бумаги были сожжены, хрустальный шар разбит, а в комнате, где проводились сеансы, была огромная куча из разбитых вдребезги механизмов искуснейшего устройства. «Это стоило мне 200 000 франков, – заметил де Ласса, указывая на груду, – но это было удачное вложение денег». Стены и пол были местами ободраны, и ущерб, причинённый собственности, был весьма значительным. В тюрьме ни де Ласса, ни его сообщники не дали никаких разъяснений. Мнение, что они каким-то образом причастны к смерти Делессера, вскоре было признано несостоятельным с юридической точки зрения, и все причастные к делу, кроме де Ласса, были отпущены. Он же продолжал оставаться в заточении то под одним предлогом, то под другим, пока однажды утром его не нашли в петле из шёлкового пояса, висящим на карнизе в его тюремной камере – он был мёртв. Как впоследствии выяснилось, накануне вечером «мадам» де Ласса и великан-лакей тайно бежали, прихватив с собой нубийского араба.
Тайна де Ласса умерла вместе с ним.
[В следующем выпуске Spiritual Scientist от 2 декабря 1875 года, стр.151, был опубликован нижеследующий редакционный комментарий:]
«Занимательное чтиво эта ваша статья в сегодняшнем Scientist’е. Однако, это документальная запись фактов или игра воображения? Если это правда, то почему не назвать источники, иными словами, уточнить ваши полномочия на это?»
Вышеприведённый текст не подписан, но мы всё-таки воспользуемся возможностью и скажем, что мы опубликовали рассказ «Нераскрытая тайна», так как считаем, что главные моменты повествования – предсказания и странная смерть инспектора полиции – представляют собой парапсихологические явления, которые происходили и могут происходить ещё не раз. К чему ссылаться на «источники»? В Священном Писании говорится о смерти Анании от безжалостного упрёка Петра; здесь мы наблюдаем феномен подобного рода. Считается, что Анания был наказан мгновенной смертью от страха. Немногие представляют себе эту силу, которая действует по законам тонкого мира; но те, кто доходили до пограничной черты и ЗНАЮТ кое-что о вещах, которые МОГУТ осуществиться, не увидят в этом никакой большой загадки, как и в истории, опубликованной на прошлой неделе. Мы не говорим загадками. Задайте вопрос сильному гипнотизёру, существует ли опасность, что субъект, исполняющий его волю, может выйти из-под его контроля? 160Может ли он заставить дух выйти вон, чтобы больше никогда не возвращаться? Есть примеры, наглядно показывающие, что гипнотизёр может воздействовать на человека на расстоянии многих миль; и не менее бесспорно, что большинство гипнотизёров почти ничего не знают о законах, которые управляют их энергиями.
Было бы славно помечтать и попытаться познать красоты тонкоматериального мира / мира духов; но время можно потратить с большей пользой, занявшись изучением духа / духовного начала как такового, и для этого не обязательно, что объект изучения должен находиться в мире духов / в тонком мире.
[В том же номере Spiritual Scientist’а, стр. 147, было опубликовано следующее письмо редактору, которое проливает свет на эту удивительную историю:]
Редактору журнала Spiritual Scientist.
Сэр,
Я в полной мере осведомлён об источнике, откуда проистекли явления, вплетённые в сюжет необычайно занимательной истории под заглавием «Неразгаданная тайна», которая была опубликована в 12 номере, том III, вашего издания. Я сам был в Париже во время описываемых событий и сам был очевидцем воздействия удивительных приёмов, применявшихся участником событий, который в повествовании фигурирует под именем месье де Ласса. То внимание, которое вы уделяете теме Оккультизма, встречает искреннее одобрение всех посвящённых – бесполезно рассчитывать на мои объяснения, отношусь я или не отношусь к этой категории.
Вы сделали общедоступным для американской публики фолиант, напичканный, от корки до корки, сообщениями о психических феноменах, которые превосходят по романтическому интересу к ним гораздо более удивительные опыты современного Спиритуализма; и в ближайшее время на ваше издание во всём мире будут ссылаться как на их главное хранилище. Так же в скором времени многочисленные авторы публикаций в вашем нынешнем журнале, которых радовал предполагаемый разгром ваших русских друзей, мадам Блаватски и ректора Философской Академии, будут вызывать смех в свой адрес и пожалеют, что были столь опрометчивы, связав себя обязательством печататься. В том же номере журнала, где напечатана история о де Ласса, имеется статья под заглавием «Оккультная философия», содержащая предположение, что якобы материализовавшиеся тонкие формы, увиденные недавно, возможно, являются подобием умерших людей, имеющих сходство с этими индивидуумами, но которые являются не более реальными духами, чем «фотография в вашем альбоме» может быть позирующей моделью.
Среди известных личностей, с которыми я встречался в Париже в то время, о котором идёт речь, был почтенный граф д’Орсе (d’Ourches), тогда бодрый пожилой джентльмен, достигший почти 161девяностолетнего возраста. Его знатные родители окончили жизнь на эшафоте в годы государственного Террора, и события той кровавой эпохи неизгладимо запечатлелись в его памяти. Он был знаком с Калиостро и с его женой, и у него хранился портрет этой дамы, чья красота поражала монаршьи дворы Европы. Однажды он, еле переводя дух, примчался к известному вельможе в его апартаменты на Елисейских Полях; он держал в руке упомянутую миниатюру и восклицал в великом возбуждении: «Боже мой, она вернулась – это она! – мадам Калиостро здесь!» Я улыбался, наблюдая волнение старого графа и хорошо понимая, что он имел в виду. Успокоившись, он рассказал нам, что только что побывал на сеансе месье де Ласса и опознал в его жене прототип миниатюры, которую он нам продемонстрировал, добавив, что она перешла к нему вместе с другими личными вещами его отца после мученической кончины последнего. Некоторые обстоятельства, касающиеся четы де Ласса, изложены с большими искажениями, но я не буду исправлять эти ошибки.
Я знаю, что насмешливые критики Оккультизма, первым делом, отнесутся с презрением к моей дерзновенной уверенности, что, по сути, прекрасная мадам де Ласса 1861 года могла быть никто иная, как столь же прекрасная мадам Калиостро 1786 года; а затем к предположению, что вовсе не невозможно, что обладатель хрустального шара и стрекочущего телеграфа, которые так расстроили нервную систему Делессера, агента полиции, был тем самым человеком, который под именем Алессандро ди Калиостро, как писали его заблуждающиеся биографы, был найден мёртвым в тюрьме Сант-Анджело.
У этих смешливых писак будет дополнительный повод для веселья, если я сообщу вам, что не только возможно, но и вероятно, что именно эту пару увидят здесь у нас ещё до закрытия Выставки Столетия, изумляя равно профессоров, редакторов и Спиритуалистов.
Посвящённых так же трудно застичь на месте, как поймать солнечный блик, мелькающий на пляшущей волне в летний день. Одно поколение людей может знать их под одним именем в определённой стране, а ближайшее / (next, в англ. тексте nest – прим. переводч.), или следующее за ним, увидят их в иной ипостаси в какой-нибудь далёкой стране. Они остаются в каждом месте столь долго, сколь в них есть нужда, а затем уходят прочь, «словно дуновение», не оставляя за собой следов.
Эндрейнек Агарди из Калошвара
[Среди газетных вырезок в Альбоме Е.П.Б., том I, стр. 83, помещено вышеприведённое Послание Редактору Spiritual Scientist’а, и автор его указан как ученик Владыки М. Город, прежде известный как Коложвар (Kolozsvár), был в то время в границах Венгрии; сейчас он известен как Клуж (Cluj) и находится в Трансильвании, одной из областей Румынии; его немецкий эквивалент – Клаузенбург (Klausenburg).
Е.П.Б. также говорит, что рассказ «Нераскрытая тайна» написан со слов Адепта, известного как Илларион (Hillarion), который иногда подписывался как Илларион Смердис (Hillarion Smerdis), хотя греческий оригинал имеет, как правило, только «И» в имени. Е.П.Б опускает начальный 162знак придыхания [передающийся в латинской транскрипции буквой ‘H’] и использует только начальную букву «И», как это свойственно славянским языкам.
Приводится факсимильная рукописная запись Е.П.Б. условными знаками.
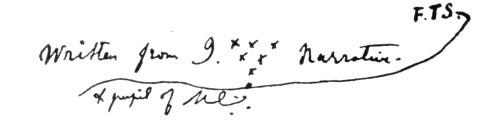
Любопытно, что когда Питер Дэвидсон (Peter Davidson), член Теософского общества, опубликовал в «Теософе» (том III, февр. и март 1882 г.) «Древнее сказание о таинственных Братьях», которое он воспроизвёл из сочинения восемнадцатого века, он закончил его следующими словами:
«...эти загадочные ‘сущности’, называемые Братьями, розенкрейцерами и т. п., попадаются в любом краю – от людных улиц ‘цивилизованного’(!) Лондона до тихих склепов полуразрушенных храмов в ‘нецивилизованной’ пустыне; одним словом, там, куда их может позвать большая и благая цель или там, куда истинное добродетельное чувство может притянуть их из их тайного уединения, поскольку одно поколение может узнать их под одним именем в некой стране, а следующее или другое поколение встретят их в иной ипостаси в другой стране». – Составитель.]
[Профессор Хирам Корсон (Hiram Corson) из Итаки, штат Нью-Йорк, в статье, датированной 26 декабря 1875 года и опубликованной в Знамени Света под заглавием «Теософское общество и инаугурационная речь его президента», остро критикует полковника Олкотта за его Обращение к президенту от 17 ноября 1875 года, особенно в тех высказываниях, которые касаются спиритуализма. К вырезке с этой статьёй, вклеенной в Альбом, том I, стр. 98-99, Е.П.Б. приписала следующие примечания:]
«О, бедный Йорик! – как хорошо мы его знаем! Вплоть до того, что часто видели его спящим в постели прямо в цилиндре и грязных ботинках. Хирам Йорик, должно быть, крепко выпил, когда писал эту статью».
Ответ Г.С. Олкотта см. на стр. 112.