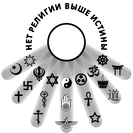Наследие Е.П.Б.: Труды • Письма • Альбомы • Произведения с участием • Изображения • Биография • Цитаты | дополнения – вопросы – исправления – задачи
| Информация о произведении |
Это было в сырую, тёмную ночь, в сентябре 1884 года. Холодный туман спускался на улицы Эльберфельда и заволакивал будто похоронным флёром и всегда-то скучный, а теперь совсем уж безжизненный, глубоко уснувший фабричный городок. Большая часть его жителей, то есть весь рабочий люд — давно уже разошёлся по домам; и давно уж, вытягивая усталые члены под немецкими пуховиками и уткнув наболевшие от машинного стука головы в немецкие перины, наслаждался непробудным сном.
Всё было тихо и в большом уснувшем доме, где я тогда находилась.
Как и все прочие, я лежала в постели; но постель моя была для меня не ложем отдыха, а одром страданий, к которому болезнь приковала меня уже несколько дней.
Так всё было тихо кругом меня в доме, что, по выражению Лонгфелло, "тишина становилась слышной". Я совершенно ясно различала, как переливалась кровь в моём наболевшем теле, производя тот монотонный и столь знакомый всякому, кто когда-нибудь прислушивался к полной тишине, звон в ушах. Я сосредоточенно следила за этими постепенно нарастающими звуками, пока из шума, словно далёкого водопада, они не перешли в рёв могучего горного потока, сердито бурлящие воды стремнины... Но вот вдруг, быстро изменив характер, шум и рёв словно слились и перепутались, перемешались и, наконец, были поглощены другим, более отрадным и желанным мною звуком. То был тихий, еле слышный шёпот голоса, давно ставшего мне знакомым благодаря денным и ночным долголетним с ним беседам. Да, шёпот знакомого и всегда дорогого голоса; теперь же, как и во все такие минуты нравственных ли, физических ли страданий, — вдвойне дорогого, потому что он всегда приносил мне с собою чувство упования и утешение, облегчение, если не полное выздоровление... Так было и на этот раз:
— Терпение!.. — шептал этот ободряющий, задушевный голос. — Рассказ о некой странной, погибшей жизни не может не сократить часов бессонницы и страданий. Отвлекись от своих страданий, найди пищу своему вниманию. Смотри... вот прямо там, перед собою!..
"Прямо там, перед собою" — означало в этом случае большие, из цельных зеркальных стекол три окна пустого дома, стоящего на другой стороне улицы. Его окна находились по прямой линии против моих окон. Когда я взглянула по указанному мне направлению, то действительно увидала то, что заставило меня на время позабыть даже жестокие боли.
Словно туман, странной формы облако ползло по зеркальным окнам пустой квартиры, увеличивалось и постепенно заволакивало всю стену. Густое, тяжёлое, змееобразное, белёсоватое облако это напомнило мне, почему-то, своей причудливой формою тень гигантского развивающего кольца боа-констриктора. Мало-помалу эта тень исчезла, оставив за собою одно сияние, местами сребристо мягкое, бархатистое, словно отсвет молодого месяца на тёмных водах чистого пруда. Затем оно задрожало, заколебалось, и зеркальные стёкла вдруг заискрились, будто отражая тысячи преломляющихся лунных лучей, целое тропическое звёздное небо, — сперва с наружной стороны окон, а затем и внутри пустого жилья...
А тишина в доме и вокруг меня становилась с каждою минутою всё слышнее и явственнее, и шум далекого водопада громче и громче, когда вдруг сияние внутри запертых окон стало снова густеть и то же туманное облако удлиняться и, пронизывая стёкла, ползти тем же змееобразным движением через улицу и над нею, медленно созидая и перекидывая волшебный мост от очарованных окон пустого дома до моего балкона — более, до самой моей кровати! В то время, когда я напряженно следила за этим странным явлением, и сами окна, и пустая за ними комната внезапно исчезли. На их месте появилась другая, комната в здании, которое было в моём сознании швейцарским ch^al'et и ничем иным. Старые, из потемневшего от времени дуба стены рабочего кабинета были покрыты от потолка до полу разными полками, заваленными древними рукописями и фолиантами. Такой же большой старомодный письменный стол стоял посреди комнаты. За ним, перед целым ворохом рукописей и письменных принадлежностей, с гусиным пером в руках сидел бледный, истощённый на вид старик; угрюмая, измождённая, скелетообразная фигура, с лицом таким исхудалым, страдальческим и жёлтым, что свет от единственной на столе рабочей лампы, падая на его голову, образовывал два ярких пятна на выдающихся скулах этого изнурённого, словно выточенного из старой слоновой кости, лица.
В то время как с трудом приподымаясь на подушках, я всматривалась через улицу, стараясь лучше вглядеться через такое расстояние в лицо старика, видение — всё целиком, как было, ch^al'et и рабочий кабинет, письменный стол, бюро, книги и сам старик — всё это вдруг заколыхалось и задвигалось... Вот оно подвигается ко мне... ближе, всё ближе; вот, неслышно скользя по призрачному мосту через улицу, видение всё приближается; вот оно уже достигло моего балкона и, не останавливаясь ни одной секунды, оно проходит — словно просачивается — сквозь стену и запертые окна. Наконец, выплыв на середину моей спальной, оно останавливается в двух шагах от моей кровати...
— Внимай его думам, прислушайся к голосу его пера... слушай, что оно станет писать, — звучит где-то далеко тот же отрадный голос. — Его история поучительна, и связанный с нею интерес способен не только сократить длину часов бессонницы, но даже и заставить забыть сами страдания... Сделай опыт и усилие, и я помогу!..
Я повиновалась и сосредоточила всё своё внимание на этой одинокой прилежно занятой фигуре, которую я видела так близко от себя, но которая и не подозревала моего соседства. В первые минуты скрип гусиного пера в руках видения не возбуждал в моём уме другого представления, кроме тихого шёпота с прищёлкиванием, каких-то острых царапающих звуков необъяснимого характера. Но мало-помалу ухо моё стало уловлять неясные слова в звуках как бы слабого, тонкого, дребезжащего голоска; и мне сперва почему-то показалось, что они исходили из уст согбенной за письменным столом фигуры: старик читал что-то вполголоса, а не писал свой рассказ. Но я очень скоро убедилась в противном. Уловив минуту, когда он повернул на мгновение голову в мою сторону, я разом убедилась, что его нервно сжатые тонкие губы были неподвижны, а голос был слишком плаксивым и резким, чтобы быть его голосом. В то же время я увидала, как после каждого написанного его слабою, дрожащей рукою слова внезапно вспыхивала из-под его гусиного пера, словно острый свет, искра, превращающаяся так же внезапно в звук, в действительности ли, или же только в моём внутреннем сознании — это всё равно: дело в том, что это был действительно тоненький голосок гусиного пера, раздававшийся у моих ушей, хотя как само перо, так и человек, пишущий им, были, вероятно, в то время за сотни миль от Германии. Такие вещи случались и будут ещё часто случаться, особенно в ночные часы, под "сенью звёзд", когда, как говорит Байрон:
... Язык миров иных, мы изучаем. |
Во всяком случае, много дней спустя, я помнила каждое произнесенное в ту ночь "пером" слово. В этом умственном процессе, впрочем, не заключалось очень большого подвига, так как в нём участвовала не память, а просто зрение. Это случилось не в первый раз. Едва я села с намерением записать рассказ пера, как нашла его, по обыкновению, уже отпечатанным неизгладимыми чертами перед моим внутренним зрением, на скрижалях астрального света...
Мне оставалось, как и всегда в подобных случаях, — только списывать рассказ, передавая его слово в слово...
Я не успела узнать имени моего ночного видения — героя рассказа. Читателям, почему-либо предпочитающим видеть в этом рассказе обыкновенным образом сочинённое событие, а быть может, просто и сон, — перипетии поведанной гусиным пером драмы окажутся от этого не менее интересными.
Вот она, как была тогда записана, а теперь переписана мною, буквально.
I. Рассказ незнакомца
"... Место моего рождения — небольшая горная деревушка. Горсть швейцарских хижин, далеко прячущихся в облитой солнцем котловине, между двумя сползающими ледниками и горою, покрытою вечным снегом. Туда, ровно тридцать семь лет тому назад, я вернулся разбитым нравственно и физически калекой — чтобы там умереть.
Но чистый укрепляющий воздух родины решил иначе: он оживотворил меня, и я доселе жив. К чему? Зачем?... Кто может знать! Быть может, я был обречён на жизнь, чтобы свидетельствовать о том, что скрывалось доселе мною в глубокой тайне, как очевидец и герой драмы, столь полной ужаса и страшных событий; рассказывать о них всё равно что переживать их снова... Но я не силах скрывать эту тайну долее! Или это он толкает... меня к этой исповеди?... Он... он!.. Так, да послужит этот рассказ наказанием моей гордости, уроком идущим по моим стопам...
Главная причина, почему я так долго скрывал случившееся, — это полученное мною в известном направлении и с самого детства воспитание. Благодаря ему я рано приобрёл основанные на одной гордости предубеждения; и когда последующие события, уличив в фальши, опрокинули мои излюбленные аксиомы, я всё-таки не смирился, но восстал ещё хуже против очевидности. Усматривая в этой непрерывной эволюции созданных причин, зарождающих прямые последствия от одной первоначальной главной причины, от коей и произошло всё последующее, — я связываю эту первопричинность со слабой и кроткой личностью некоего аскета японца, и говорю: он — перст, направивший первоначальное событие; а все последствия только доставляют мне одно лишнее и неопровержимое доказательство существования того, что я с радостью признал бы — о, когда бы это только ещё было возможным! — за бессмысленную химеру, за создание моей личной фантазии, за горячечное видение, за бред расстроенного, обезумевшего мозга. О, когда бы!.. Потому что именно этот образец всех человеческих добродетелей, этот старец, наполнивший горечью и испортивший мне всю жизнь, это именно он первопричина всего зла, создатель преследующего меня демона!.. Насильно столкнув меня с однообразной, но зато безопасной тропы обыденной жизни, он был первым, кто навязал мне против воли убеждение и заставил уверовать в загробную, если не в вечную жизнь, прибавив, таким образом, ещё одну лишнюю пытку ко всем омерзительным ужасам земной жизни!..
Дабы дать читателю более ясное представление о моём положении, я должен прервать на время свои воспоминания о нём, сказав несколько слов о самом себе.
Как уже сказано, родившись в Швейцарии у родителей французов, сосредоточивших всемирную премудрость в литературной триаде, состоявшей из Вольтера, Ж. Ж. Руссо и де Гольбаха, и получив воспитание в одном из германских университетов, я вырос ярым материалистом и убеждённым атеистом. Я был совершенно не способен представить себе даже в воображении какие-то сверхъестественные существа, — не говоря уже о каком-то высшем существе, — властвующие над миром или даже вне видимой природы и отличные от неё. Вследствие такого умозрения я и взирал на всё то, что не могло быть подведённым под строгий анализ физических чувств, как на одну химеру. Душа — рассуждал я — даже допуская таковую в человеке, должна быть вещественной. Определение слова incorporeal, — эпитет, даваемый им его Богу, — означает вещество, только немногим утончённее физических тел, и о котором мы во всяком случае не способны создать себе ясного представления. Так как же может то, о чём наши чувства не способны доставить нам ясного понятия, как может оно сделаться вдруг видимым или даже просто произвести какое-либо осязательное явление?
Естественным следствием подобных умозрений являлось дикое презрение к легендам в то время только что зарождающегося в Европе спиритизма, равным которому было разве только всегда овладевающее мною чувство злобной иронии при первом слове назидания от изредка встречаемых мною патеров. Это последнее чувство не оставляло меня во всю жизнь и только окрепло с годами.
В восьмом отделе своих "Мыслей" Паскаль сознаётся в полной неудовлетворительности доказательств касательно существования Бога. Я же в продолжение целой моей жизни исповедовал полную уверенность в небытии такого экстра-космического существа, повторяя вместе с этим великим мыслителем памятные слова, в которых он нам говорит, что:
"Я искал удостоверения в том, не оставлял ли этот Бог, о котором говорит весь мир, хотя каких-нибудь за собою следов. Я ищу всюду, и всюду нахожу один мрак. Природа не даёт мне ничего, что не сделалось бы для меня вопросом сомнения и беспокойства".
Не находил и я, до сего дня, ничего такого, что бы могло заставить меня изменить это воззрение. Я никогда не верил и никогда не поверю в Верховное Существо. Относительно же явлений, вера в которые, появившись с Востока, распространилась и проповедуется теперь по всему земному шару, и того, что есть такие на свете люди, которые развили в себе психические способности до такой степени, что равняются древним богам по своей силе, — над теми, как и над другими, я давно перестал даже смеяться. Вся моя жизнь, разбитая, раздавленная, приниженная, является громким протестом против такого дальнейшего отрицания!
Вследствие несчастного по смерти моих родителей процесса я потерял большую часть моего состояния и тогда же решился — скорее ради тех, кто мне был дорог, чем для самого себя — составить себе другое. Моя старшая и единственная сестра, которую я обожал, была замужем за бедным человеком. Для её детей я решился вступить в товарищество с богатой фирмою в Гамбурге, и отправился в Японию в качестве агента.
В продолжение нескольких лет мои дела шли очень успешно. Я пользовался доверием многих влиятельных японцев, благодаря покровительству которых получил возможность посещать и делать обороты и дела во многих местностях, совершенно недоступных в то время для европейцев. Равнодушный ко всем религиям — я заинтересовался буддизмом, единственной, по-моему, системой, достойной называться философической. Поэтому в свободное от занятий время я посещал самые замечательные в Японии храмы и видел во всех деталях самые важные из девяноста шести буддистских монастырей в Киото. Так, я изучал по очереди храмы: Дой-Бутсу с его гигантским колоколом, Тзео-Нене, Енарино-Яссеру, Кие-Мизу, Хигадзи-Хонг-Вонси и много других знаменитых капищ.
Во все эти протекшие в Японии годы я не переставал относиться скептически ко всему вне чисто материального мира. Я насмехался над претензиями японских бонз и аскетов, как и над уверениями наших католиков и европейских спиритов, я не мог верить даже в существование, не только в приобретение таких сил или способностей, о которых ничего ещё не было известно нашим учёным, и поэтому они не могли быть ими изучены; вследствие этого я и поднимал их на смех. Суеверные и черножелчные буддисты, учащие нас избегать радостей мира сего, смирять страсти и добиваться полного бесчувствия к страданиям из-за заочной надежды приобрести к концу жизни химерические дары, казались мне невыразимо смешными.
У подножия золотой Квон-Он я познакомился с почтенным и учёным бонзой, неким Тамурой Хидейхери, сделавшимся после того моим лучшим и самым доверенным другом.
Но мой благородный друг был столь же кротким и всепрощающим, как и учёным, полным мудрости. Он никогда не сердился за мои насмешки, ни разу не ответил на мои нетерпеливые сарказмы. Он только просил меня ждать, когда придёт моё время, говоря, что только тогда я получу право слова.
Точно так же он никогда не мог всерьёз поверить в искренность моего отрицания реальности существования Бога или богов. Полное значение терминов "атеист" и "скептицизм" оставались за пределами понимания этого необычайно умного и наблюдательного во всём остальном человека. Как некоторые почтенные христиане, он не был способен понять, что разумный человек может предпочесть мудрые заключения философии и современной науки смехотворной вере в невидимый мир, наполненный богами, духами, джиннами и демонами. "Человек — существо духовное, — настаивал он, — которое возвращается на землю более чем один раз, и между этими возвращениями его либо награждают, либо наказывают". Предположение о том, что человек — лишь куча организованной, сконструированной пыли или праха, было за пределами его понимания. Как и Иеремия Колье, он отказывался признать, что он сам не более чем "ходячая машина, говорящая голова, в которой нет души", чьи "мысли подчиняются законам движения". Он говорил: "Если мои действия предписаны мне заранее, как вы утверждаете, у меня не может быть свободы или свободной воли, способной изменить направление своего действия, так же как и у воды, протекающей в той реке. Если бы это было так, славное учение кармы, учение о вознаграждении добродетели и воздаянии за грехи действительно было бы глупостью".
Таким образом, вся гиперметафизическая онтология моего друга основывалась на шаткой надстройке метемпсихоза, на воображаемых справедливых законах воздаяния за грехи и других столь же бессмысленных мечтаниях.
— Мы не можем, — парадоксально заявил он однажды, — надеяться на жизнь после смерти и наслаждение полнотой сознания, если не построим для этого прочный и надёжный фундамент духовности до нашей смерти... Нет, не смейтесь, друг мой, ни во что не верящий, — умолял он меня, — лучше подумайте, поразмыслите над этим. Тот, кто никогда не учился жить в Духе в его сознательной жизни, полной ответственности, вряд ли может надеяться на то, что ему удастся насладиться жизнью после смерти, когда он, лишённый тела, останется целиком в состоянии Духа.
— Что вы имеете в виду под словами "жизнь в Духе"? — поинтересовался я.
— Это жизнь в духовной плоскости, то, что буддисты называют Тушита Девалока (Рай). Человек может создать себе счастливую жизнь между двух смертей постепенным переходом к духовной плоскости и её возможностям, проявляющимся в его земной жизни только в его органическом теле и, как вы его называете, в животном мозгу.
— Какая бессмыслица! И как же человек может добиться этого?
— Созерцание и сильное желание соединиться со святыми божествами помогут человеку достичь этого.
— А если человек откажется от такого умственного занятия, под которым вы, по-моему, предполагаете созерцание кончика своего носа, что с ним будет после смерти его тела? — насмешливо спросил я его.
— С ним поступят в соответствии с господствующим состоянием его сознания, в котором существует множество градаций. В лучшем случае за смертью последует немедленное перевоплощение и рождение заново, в худшем — его ожидает состояние авичи, или душевных мук ада. Однако человеку не обязательно становиться аскетом для того, чтобы слиться с духовной жизнью, которая продолжится после смерти. От него требуется только одно: постараться приблизиться к Духу.
— Каким образом? А если человек не верит в это? — снова спросил я его.
— Даже если не верит! Можно не верить, но сохранить в душе место для сомнений, сколь бы мало ни было это место. И он может попытаться однажды, хотя бы на одно мгновение, приоткрыть дверь внутреннего храма, и этого будет достаточно.
— Мой почтенный господин, ваши рассуждения слишком поэтичны и к тому же парадоксальны. Не могли бы вы ещё немного рассказать мне об этих таинственных силах?
— Здесь нет никакой тайны, и я охотно объясню. Предположим на мгновение, что духовный план, или духовный уровень, о котором я говорил, — это какой-то неизвестный храм, в котором вам ещё не доводилось бывать, и существование которого у вас есть основание отрицать. И вот, кто-то берёт вас за руку и подводит к храму, а любопытство заставляет вас открыть его двери и заглянуть внутрь. Вот этим простым действием — тем, что вы заглянули на секунду, — вы навсегда устанавливаете связь между вашим сознанием и этим храмом. Вы уже больше не можете отрицать его существование и не можете стереть из своей памяти то, что уже однажды входили в него. А далее, в соответствии с характером и разновидностью ваших трудов и, разумеется, в пределах, освященных границами храма, вы будете жить на этом уровне до тех пор, пока ваше сознание не отделится от своего жилища в вашем теле.
— Что вы хотите сказать? И что связывает после смерти моё сознание, если только таковое существует, с этим храмом?
— Оно во всём связано с этим храмом, — торжественно ответил старик. — Самосознание после смерти невозможно вне храма духа. Следовательно, в вашем сознании сохранится только то, что вы совершили на уровне духа. Всё остальное окажется ложью и обманом зрения, оно обречено на гибель в Океане Майи.
Мысль о жизни вне моего собственного тела показалась мне забавной, я потребовал от своего друга, чтобы он рассказал мне об этом подробнее. Почтенный старик ошибся, думая, что меня увлек его рассказ, и охотно согласился продолжить.
Он принадлежал к храму Тци-о-нене, буддийского монастыря, столь же известного в Тибете и Китае, как и во всей Японии. В Киото нет другого более священного. Его монахи принадлежат к секте Дзено-ду и считаются учёнейшими между столькими другими учёными братствами. Вдобавок к этому, они находятся в дружбе и союзе с отшельниками-аскетами, последователями Лао-цзы, известными под названием ямабузи.
Так что нет ничего удивительного в том, что малейший намёк на интерес с моей стороны вызвал у священника поток столь высокой метафизики. С её помощью он надеялся излечить меня от неверия.
Здесь нет необходимости повторять длинную и сложную систему самого безнадёжно запутанного и непостижимого из всех учений. Согласно его мировоззрению, нам необходимо тренировать себя для духовной жизни в мире ином так же, как можно тренироваться в гимнастике. Продолжая аналогию между храмом и "духовным уровнем", он попытался проиллюстрировать свою мысль. Сам он работал над собой в храме Духа две трети своей жизни и каждый день несколько часов посвящал созерцанию. Он знал, что после того, как он сбросит с себя своё смертное одеяние, то есть то, что он называет "обычной иллюзией", в своём духовном сознании он сможет снова и снова пережить чувство облагораживающей радости и божественного счастья, которые он уже испытал, пребывая в храме Духа, или которые должен был испытать там, — только после смерти они будут в сотни раз сильнее. Он много работал над собой на духовном уровне, как он говорил, поэтому надеялся, что будущее справедливо заплатит ему за труды.
— Но, предположим, что как и в том примере, о котором мы говорили, работающий только приоткрыл дверь храма и заглянул туда из простого любопытства. Он заглянул в святилище и никогда больше не переступал порога. Что тогда?
— Тогда, — ответил он, — в вашем будущем самосознании останется только это краткое мгновение, мгновение открываемой двери и ничего более. Наша жизнь после смерти повторяет и производит только те впечатления и чувства, которые были у нас в мгновения духовной жизни. Таким образом, если вы, заглянув на мгновение в жилище Духа, таили в своём сердце гнев, ревность или боль вместо смиренного почитания, тогда ваша будущая духовная жизнь, по правде говоря, будет печальной. В ней нечего будет воспроизвести кроме того самого мгновения, когда вы открыли дверь в порыве гнева или просто дурного настроения.
— Каким образом это будет повторяться? — настойчиво спросил я его в сильном изумлении. — Что же, по-вашему, со мной случится перед тем, как мне снова придётся воплотиться?
— В этом случае, — проговорил он медленно, взвешивая каждое слово, — вам придётся скорее всего открывать и закрывать дверь храма снова и снова, и время, которое уйдёт у вас на это закрывание и открывание двери, покажется вам вечностью.
Такое занятие после смерти показалось мне настолько забавно-гротескным и бессмысленным, что меня потряс совершенно непроизвольный сильнейший приступ смеха.
Мой почтенный друг был сильно напуган, увидев последствия своего урока метафизики. Очевидно, он не ожидал от меня такого буйного веселья. Однако он ничего не сказал, а со всё усиливающимися добротой и жалостью, которые светились в его узких глазах, продолжал смотреть на меня.
— Прошу вас, простите мне этот смех, — извинился я, — но скажите, неужели вы со всей серьёзностью заявляете мне, что то самое "духовное состояние", которое вы проповедуете и в которое так твёрдо верите, заключается в том, что мы будем повторять некоторые вещи, которые делали в реальной жизни?
— Нет, нет, не повторять, но усиливать их повторение, заполняя промежутки между поступками и делами, совершёнными нами на духовном уровне, — единственно реальном уровне существования. Я всего лишь привёл пример, и, без сомнения, для вас, как и для всякого человека, совершенно незнакомого с таинствами Видения Души, мой рассказ был не очень понятен. Я сам во всём виноват... Я просто хотел показать вам, что в духовном состоянии наше сознание освобождается от тела, и что это состояние есть плод каждого духовного поступка, совершённого в земной жизни, и если такой поступок лишён духовности, мы не можем ожидать никаких других результатов, кроме повторения самого поступка, вот и всё. Я молю богов о том, чтобы они избавили вас от таких бесплодных дел и помогли вам в конце концов увидеть определённые истины.
И затем, после обычной японской церемонии прощания, этот прекрасный человек ушёл.
Увы, увы, если бы я только знал тогда то, что знаю сейчас, мне бы и в голову не пришло смеяться. И как много я смог бы узнать!
Но чем более я удивлялся его обширным сведениям и научался любить его лично, тем менее мог помириться с его дикими идеями о возможности некоторыми из смертных приобретать сверхъестественные дары. Я чувствовал ужасную досаду за выказываемое им почитание ямабузи — религиозных союзников всех буддистских сект в стране. Их притязания на "чудотворство" были невыносимо противны моим материалистичным понятиям. Слышать, как каждый из моих киотских знакомых — включая японского товарища по фирме, одного из самых тонких хитрецов, которых я когда-либо знал на Востоке, — говорит об этих последователях Лао-цзы не иначе как с опущенными долу глазами, с набожно сложенными вместе ладонями, как перед идолом, и с подтверждениями об их "великих", "изумительных" дарах, — не хватало моего терпения! И кто они такие, эти великие маги, с их карикатурными претензиями на знание всех тайн природы; эти "святые нищие", живущие, как я тогда воображал, нарочно в дебрях и гротах непосещаемых горных ущелий, на почти недосягаемых вершинах, чтобы отнять у любопытных всякую возможность следить за ними и узнать их тайны. Кто они такие?... Просто нахальные ворожеи, гадальщики на картах, японские цыгане, продающие талисманы и амулеты, — и ничего более!..
Вот кто они такие. И с наибольшей яростью и самым твёрдым убеждением в своей правоте я спорил с теми, кто пытался убедить меня, что ямабуши живут загадочной жизнью, никогда не допуская непосвящённых в свои тайны. Но иногда они всё-таки принимают учеников, и, хотя быть учеником ямабуши очень трудно, такие люди есть, и поэтому у ямабуши есть живые свидетели, которые могут подтвердить величественную чистоту их жизни. В своих спорах я оскорблял и учителей, и учеников, называя их дураками, если не мошенниками, и доходил в своей ярости до того, что включал их в ряды членов синто. Синтоизм, или син-сын, вера в богов или в путь к богам — это вера в общение между божественными существами и людьми. Как религиозное течение синтоизм напоминает поклонение духам природы, и с этой точки зрения, пожалуй, ничего не может быть глупее. Поместив всех членов общества Син-Сын среди дураков и мошенников других сект, я приобрел множество врагов. Это произошло потому, что синто кануси (духовные учителя) считаются наивысшим классом общества и сам Микадо стоит во главе их иерархии. В их секту входят самые культурные и образованные люди Японии. Эти кануси секты синто не принадлежат к какой-то одной касте или классу. Кроме того, они не проходят никакого обряда посвящения, по крайней мере, известного тем, кто не принадлежит к этому обществу. Поскольку они никогда не требуют для себя особых привилегий и прав, а одеваются так же, как и все остальные непосвящённые, очень часто для окружающих они остаются профессорами или студентами, изучающими различные оккультные или духовные науки, поэтому я очень часто встречался и разговаривал с ними, даже не подозревая о том, с кем имею дело.
II. Таинственный посетитель
Прошли годы. Со временем мой неистребимый скептицизм усиливался и становился яростнее день ото дня. Я уже говорил о своей старшей любимой сестре, моей единственной родственнице, оставшейся в живых. Она вышла замуж и недавно переехала жить в Нюренберг. Я относился к ней скорее как к дочери, чем как к сестре, её дети были так же дороги мне, как если бы они были моими собственными. Когда в течение нескольких дней мой отец потерял всё своё состояние, а у матери не выдержало сердце, именно моя старшая сестра стала ангелом-хранителем нашей бедной семьи. Из любви ко мне, младшему брату, она делала всё, чтобы оплатить мою учёбу, отказываясь от личного счастья. Она пожертвовала собой ради близких людей, помогая отцу и мне, до бесконечности откладывала свою свадьбу. Как я любил и почитал её! Время только усиливало мои семейные чувства. Те, кто утверждает, что атеист вообще не способен быть настоящим другом, любящим родственником или верным подданным, произносят сознательно или бессознательно величайшую клевету и ложь. Это огромная ошибка говорить, что материалист с годами ожесточается, что он не может любить так, как любит человек, верующий в Бога.
Правда, бывают и исключения, но, как правило, люди, о которых идёт речь, больше самолюбивы, чем скептичны или просто грубо чувственны. Но если человек добродушен по своей природе, и у него нет никаких мотивов, кроме любви к разуму и истине, и если такой человек становится атеистом, его семейные чувства, любовь к близким ему людям только усиливаются. Все его эмоции и страстные желания, которые у людей религиозных вдохновляются невидимым и недостижимым, вся его любовь, которая в противоположном случае была бы без всякой пользы отдана воображаемому небу и божеству, обитающему на этом небе, у атеиста концентрируется и удесятеряется, направляясь целиком на тех, кого он любит, и на человечество. В самом деле, только сердце атеиста
...может знать |
Именно братская любовь заставила меня пожертвовать личными удобствами и благосостоянием, чтобы сделать сестру счастливой, чтобы принести радость той, которая стала мне ближе матери. Я был совсем мальчишкой, когда оставил свой дом в Гамбурге, и работал с отчаянной серьёзностью человека, который преследует одну-единственную благородную цель: избавить от страданий тех, кого любит. Я очень скоро завоевал доверие своих работодателей, и они предоставили мне высокую должность, на которой я пользовался их полным доверием. Моей первой настоящей радостью и наградой стало замужество моей сестры. Я был рад помочь им в борьбе за существование. Моя любовь к ним была такой чистой и бескорыстной, что когда мне довелось увидеть её детей, любовь эта, вместо того чтобы ослабнуть, разделившись между столькими членами семьи, казалось, стала ещё сильнее. Мои чувства к сестре, которые питались способностью к глубоким и тёплым привязанностям в семейном кругу, были так велики, что мне и в голову никогда не приходила мысль зажечь священное пламя любви перед каким-либо другим кумиром. Семья моей сестры была единственной церковью, которую я признавал, и единственным храмом, в котором я совершал обряды поклонения перед алтарем святой семейной любви и привязанности. По существу, с Европой меня связывала только её семья из одиннадцати человек, включая мужа. За все эти годы, а точнее за девять лет, я дважды пересекал океан с единственной целью — увидеть и прижать к своему сердцу дорогих мне людей. Мне больше нечего было делать на Западе, и, исполнив эту приятную обязанность, я всякий раз возвращался в Японию, чтобы не покладая рук трудиться ради их счастья. Ради них я оставался холостяком, чтобы богатство, которое я смогу собрать, перешло к ним целиком.
Мы переписывались с сестрой настолько часто, насколько позволяла длительность путешествия на почтовом пароходе и нерегулярность сообщения с Японией. Вдруг письма из дома перестали приходить ко мне. Почти год я не получал никаких вестей. День ото дня я становился всё беспокойнее, предчувствие величайшего несчастья постепенно овладело мной. Напрасно искал я в почте какую-нибудь весточку от родных, хотя бы в несколько слов. Все мои попытки как-то объяснить это молчание были бесполезны.
— Друг мой, — сказал мне однажды Тамура Хидейхери, единственный человек, которому я доверял свои печали. — Друг мой, попросите совета у святого ямабуши, это успокоит вас.
Разумеется, я отказался от его предложения со всей сдержанностью, на какую был способен. Но пароход приходил за пароходом, а новостей для меня не было. Я чувствовал, что моё отчаяние усиливается с каждым днём. В конце концов оно превратилось в непреодолимую страсть, в отвратительное, болезненное желание узнать пусть даже самое худшее, как мне тогда казалось. Я долго боролся с отчаянием, но оно оказалось сильнее меня. Всего несколько месяцев назад я прекрасно владел собой, теперь же я стал рабом отвратительного страха. Как философ-фаталист, последователь Гольбаха, я всегда считал необходимость всего происходящего единственной причиной и основой философского счастья. Именно необходимость помогает обуздывать человеческую слабость. И вот теперь я, философ-фаталист, желал испробовать нечто такое, что сродни гаданию! Дело зашло так далеко, что я забыл первейший принцип своего философского учения: всё в этом мире необходимо. Это единственный принцип, который должен утешать нас в печали и вдохновлять на благотворную покорность, на разумное подчинение законам слепой судьбы, против которых так часто бунтуют наши глупые чувства. Да, я забыл этот принцип, и меня охватило позорное суеверное желание, глупое и низкое желание узнать если не будущее, то, по крайней мере, то, что происходит на другой стороне земного шара. Моё поведение, характер и интересы совершенно изменились. И вот я, как слабонервная девчонка, однажды поймал себя на мысли, что пытаюсь, напрягая свой мозг до безумия, увидеть — говорят, что у некоторых это получается, — то, что происходит за океаном, и узнать наконец реальную причину этого долгого необъяснимого молчания!
Однажды вечером, на закате, мой старый друг, почтенный Тамура появился на веранде моего низенького деревянного дома. Я не заходил к нему несколько дней, и он пришёл узнать, как я себя чувствую. Я воспользовался возможностью ещё раз посмеяться над тем, кого на самом деле очень любил и уважал. Довольно двусмысленным тоном, в котором я раскаялся до того, как успел произнести свой вопрос, я спросил, зачем ему понадобилось утруждать свои ноги и идти ко мне, когда он мог просто спросить о моём состоянии какого-нибудь ямабуши. Поначалу он, казалось, обиделся, но внимательно посмотрев на моё расстроенное лицо, он мягко заметил, что может только ещё раз предложить то, что он мне советовал уже раньше. Только один из ямабуши, этого святого монашеского ордена, может утешить меня в моём теперешнем состоянии.
Тогда мною овладело безумное желание бросить ему вызов, заставить его делом доказать свои слова. Я сказал ему, чтобы он привёл кого-нибудь из этих так называемых волшебников, и пусть тот назовёт мне имя человека, о котором я думаю, и расскажет, что этот человек делает в данный момент. Он тихо ответил, что моё желание легко удовлетворить. Всего в двух домах от моего дома ямабуши пришёл навестить больного синто, он может привести его ко мне, если только я пожелаю.
Я пожелал, и участь моя была решена.
Как мне найти слова, способные описать последовавшую сцену!
Через двадцать минут передо мной стоял величественный старик, необычайно высокий для японца. Он был бледен и худ. Вместо ожидаемого раболепного смирения я увидел в нём спокойное достоинство. Всякий, кто сознаёт своё нравственное превосходство, с равнодушным презрением смотрит на ошибки других. Он не отвечал на мои насмешливые непочтительные вопросы, которые я лихорадочно задавал ему один за другим. Он молча смотрел на меня, как врач на бредящего пациента; когда его глаза остановились на мне, я почувствовал, или скорее увидел, как яркий и острый луч света, словно серебряная нить, вырвался из чёрных узких глаз, глубоко посаженных на его жёлтом лице. Этот луч или нить, казалось, проникли в самый мой мозг и сердце, как стрела, и начали извлекать оттуда мои мысли и чувства. Да, я видел и чувствовал это, и очень скоро это стало невыносимым.
Я не выдержал и с вызовом в голосе предложил рассказать мне, что он прочёл в моих мыслях. Он спокойно и правильно ответил на мой вопрос: меня беспокоила, чрезвычайно беспокоила судьба родственницы, её мужа и детей. Он правильно описал мне их дом, будто знал его столь же хорошо, как и я. Я бросил подозрительный взгляд на своего друга бонзу, который мог заранее рассказать всё это ямабуши. Однако я вспомнил, что Тамуре не было известно, как выглядит дом моей сестры, а японцы, как правило, правдивы и остаются друзьями до самой смерти. Мне стало стыдно за своё подозрение. Чтобы как-то загладить вину перед собственной совестью, я спросил у отшельника, не мог бы он рассказать мне, что сейчас происходит с моей любимой сестрой.
— Иностранец, — ответил он мне, — не поверит ничьим словам и никаким знаниям из чужих уст. Если ямабуши скажет ему, то впечатление от его слов рассеется через несколько часов, и спрашивающий останется столь же несчастным, как и раньше. Есть только один выход: нужно сделать так, чтобы иностранец увидел всё своими глазами и сам узнал истину. Готов ли спрашивающий к тому, что неизвестный ему ранее ямабуши приведёт его в необходимое состояние?
Я слышал в Европе о загипнотизированных сомнамбулах и других мошенниках, претендующих на дар ясновидения и, поскольку я в них не верил, я не имел ничего против самой процедуры гипноза. Несмотря на непрекращающуюся душевную боль, я не смог удержаться от улыбки при мысли об операции, которая мне предстояла и на которую я шёл по своей охоте. Тем не менее я выразил своё согласие молчаливым поклоном.
III. Психическая магия
Старый ямабузи не стал терять времени; он посмотрел на заходящее солнце и найдя, вероятно, властелина Тень-Зио-Дайзина (духа, мечущего стрелы) благоприятным для приготовляемой им церемонии, проворно вынул из-под платья маленький узелок. В нем была небольшая лаковая шкатулка, кусок растительной бумаги, сделанной из коры шелковичного дерева, и перо, которым он начертал на ней несколько строк найденскими письменами — особый род букв, употребляемый только в религиозных или мистических документах. Кончив, он снова полез в карман и вытащил из него небольшое круглое зеркальце из стали, необычайно блестящей полировки, в которое, держа его перед моими глазами, он и попросил меня смотреть, не отрывая глаз.
Я уже знал и прежде о таких зеркалах и то, что они в употреблении только в некоторых храмах, где я их не раз видал. Туземцы находятся в полной уверенности, что под управлением и волею их адептов и магов дайдж-дзины, великие духи, открывают вопрошающим всю их судьбу. Я тотчас же вообразил, что ямабузи собирался вызвать такого духа, чтобы тот отвечал на мои вопросы. То, что случилось, однако, в действительности, оказалось совершенно неожиданным.
Не без некоторого отвращения в душе, вызванного глубоким чувством глупости того занятия, которому предаюсь, я прикоснулся к этому зеркалу и внезапно испытал странное ощущение в предплечье руки, которой держал зеркало. На короткое мгновение я забыл о своей позиции презрительного наблюдателя и не мог с насмешкой относиться к происходящему. Неужели это страх овладел моим мозгом, на мгновение парализуя его,
... тот страх, который сердце жжёт, |
Нет, я продолжал убеждать себя, что из этого эксперимента ничего не выйдет, что вообще ни один разумный человек не может поверить в такое. Что же это было? Какое-то странное ледяное существо проползло в моём сознании и вызвало в моей душе чувство невыразимого ужаса, словно ядовитая змея впилась в моё сердце. Моя рука судорожно дёрнулась, и я уронил зеркало, — краснея от стыда, не могу добавить эпитет "магическое" — и никак не мог заставить себя поднять его с кушетки. Какое-то мгновение во мне происходила ужасная борьба между неопределёнными и совершенно для меня непонятными силами — желанием заглянуть в глубины этого отполированного зеркала и моей гордыней, которую, казалось, ничто не могло победить. В конце концов желание посмотреть возобладало, и мятеж гордыни был подавлен желанием бросить вызов ей же самой. На лакированном столике лежала книжка европейского романа, она была открыта. Мой взгляд случайно упал на её страницы, и я прочел слова: "Покров, скрывающий от нас будущее, соткан любящей рукой". Этого было достаточно. Гордыня, до сих пор удерживавшая от унизительного суеверного эксперимента, теперь заставила меня бросить вызов судьбе. Я поднял зловеще сверкающий диск зеркала и приготовился заглянуть в него.
Пока я смотрел в зеркало, ямабузи сказал поспешно и тихо несколько слов бонзе Тамуре, а я тотчас же окинул обоих быстрым и подозрительным взглядом, но был снова пойман в несправедливости.
— Святой муж, — сказал бонза, — желает, чтобы я задал вам вопрос и в то же время дал бы вам предостережение. Если вы решились видеть то, что вы так желаете, сами и теперь же, то вам придётся подвергнуться ритуальному процессу очищения, после того как вы узнаете посредством зеркала всю правду. Иначе вы обречёте себя в будущем и до конца вашей жизни видеть всё касающееся вас, — а иногда даже и не прямо касающееся — и происходящее на каком бы то ни было от вас расстоянии, и против вашей воли. Вследствие этого, он и просит вас согласиться на обряд очищения, так как он никогда не мог бы простить себе впоследствии, что не предупредил вас заранее. Он считал бы себя виноватым в том, что, поступив согласно с вашим желанием, он тем самым превратил вас в невменяемого ясновидящего. Согласны ли вы, друг, дать ему такое обещание?
— Об этом будет время подумать после, когда — или скорее если — я что-нибудь увижу, — уклончиво ответил я и подумал: — А в этом-то именно я пока весьма сомневаюсь.
— Очень хорошо; только не забывайте, друг, что вы получили предостережение. Последствия да останутся с этой минуты на вашей совести...
Я взглянул на стенные часы, и у меня вырвался жест нетерпения, ясно понятый ямабузи. Было ровно семь минут шестого.
— Определите мысленно и с величайшей точностью то, что вы желали бы видеть и узнать, — сказал он, передавая мне в руки зеркало и исписанный им лоскуток бумаги с наставлением, как с ними поступить.
Я выслушал его пояснения скорее с нетерпением, чем с благодарностью, и на какое-то мгновение сомнение снова овладело мной. Тем не менее я ответил ему, устанавливая зеркало в нужном положении:
— Я желаю одного — узнать причину, почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать.
Произнёс ли я эти слова громко и в присутствии моих двух свидетелей или же только мысленно?... До сего дня этот вопрос остался для меня неразрешённым. Вспоминаю ясно лишь одно: пока я сидел, вперя глаза в зеркало, ямабузи, в свою очередь, не сводил с меня глаз. Но длилось ли это три секунды или же три часа, я никогда не мог бы решить... если бы не одно обстоятельство, случившееся после того, как я уже пришёл в себя, о котором скажу далее. Я могу дать себе отчёт в происшедшем только до той минуты, когда, твёрдо обхватив зеркало левой ладонью и пальцами и держа бумагу с мистическими письменами между указательным и большим пальцами правой руки, — я потерял внезапно и без малейшего, казалось, перехода всякое сознание об окружающих меня предметах. Этот переход от деятельного состояния бдения к такому, которое мне невозможно объяснить на словах тому, кто никогда сам не испытывал чего-либо подобного, — был так быстр, что в то самое время когда мои глаза вдруг перестали видеть перед собою бонзу, ямабузи и даже комнату, а я сам, как мне казалось, лишился всякого сознания о внешних предметах, — я всё-таки продолжал ясно видеть (к своему удивлению впоследствии, но не тогда) собственную наклоненную над зеркалом голову и часть спины лежащей на диване фигуры, которая тоже оказалась моею. Затем я почувствовал сильный, словно произвольно данный мне, мною самим, толчок вперёд, — будто я оторвался от самого себя и с занимаемого мною на диване места, — и тогда как все прочие чувства оставались в полном бездействии, как бы парализованные, мои глаза, как мне показалось, вдруг совершенно неожиданно остановились на никогда не виданном, никогда не посещаемом мною доме сестры, в Нюренберге, в который она переехала после моего последнего визита к ней в Европу. Да, я видел ясно — гораздо яснее теперь, нежели в моём представлении о нём по письмам, — этот новый её дом, как и разные другие, также до того времени незнакомые мне местности. Вместе с этим и с чувством как бы потухающего сознания в мозгу — умирающие так должны чувствовать — моя последняя, неясная мысль, столь слабая, что я едва её мог уловить, была о том, что я должен был казаться присутствующим, в положении сомнамбула, очень, очень смешным!
Однако это "чувство", поскольку это было скорее чувство, чем мысль, вскоре прервалось, будто внезапно погасло. Его закрыл внутренний образ (я не могу назвать это иначе) меня самого или, по крайней мере, того, что я почитал собой, а точнее своим телом, которое лежало с посеревшим лицом на кушетке, словно мёртвое, не способное отозваться ни на какое проявление внешней жизни, но всё ещё уставившееся холодным остекленевшим взглядом трупа в зеркало. Наклонившись над моим телом, стоял высокий ямабуши, протянув свои иссохшие руки перед собой и разрезая ими воздух над моим бледным лицом. В это мгновение я почувствовал непреодолимую, смертельную ненависть к этому человеку. Когда мне показалось, что я уже готов был броситься на этого подлого шарлатана, мой труп, комната и всё, что в ней было, задрожали и заблистали в красноватом мерцающем свете и быстро поплыли от "меня" прочь. Перед моим "зрением" промелькнуло ещё несколько гротескных искажённых теней, и вот с последним угасающим всплеском ужаса, невероятным усилием пытаясь понять, кто же я теперь, я почувствовал, что на меня опускается огромный занавес темноты, который покрыл меня своим могильным саваном, и последние мысли умерли во мне.
IV. Ужасные видения
Как странно... но где же я теперь?... Было очевидно, что я уже пришёл в себя, так как я живо сознавал, что двигаюсь вперёд, ощущая вместе с тем, будто без всякого для того с моей стороны произвольного усилия и даже желания я плыву в совершенной мгле. Первая поразившая меня мысль, скорее инстинктивная, нежели вследствие какой-либо причинности, — была та, что я нахожусь в длинном подземном проходе, полном воды, земли и удушливого воздуха, хотя телесно у меня не было ни представления, ни ощущения касательно присутствия или какого-либо соприкосновения с тем или другим элементом. Я попробовал повторить громко свою последнюю фразу: "Я желаю одно: узнать причину, почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать", — но из этих четырнадцати слов единственными явно расслышанными мною были два "желаю одно", да и эти, вместо того чтобы прозвучать из собственной гортани, дошли до меня, правда, произнесённые собственным моим голосом, но как бы совершенно вне меня, где-то близко, но не из меня. Одним словом, они были произнесены моим голосом, но не мною, не моими устами...
Ещё одно быстрое, непроизвольное движение, ещё раз я ныряю в непроницаемую тьму незнакомого мне элемента, и я вижу себя стоящим — буквально стоящим, — как мне показалось, в какой-то подземной яме. Я был плотно окружён со всех сторон, над головою и под ногами, направо и налево, землёю, но невзирая на это прикосновение, я не испытывал никакой тяжести, и эта земля казалась моим физическим (как я тогда думал) чувствам совершенно невещественной и прозрачной. Мне ни на одну секунду не представилась в то время вся нелепость, скажу более — невозможность такого только кажущегося факта! Ещё мгновение, одно короткое мгновение, и я заметил — о, невыразимый ужас, когда я думаю об этом теперь, потому что тогда, хотя я и видел, сознавал и запоминал в уме все факты и события с гораздо большей, нежели когда-либо в другое время, ясностью представления, я, однако, не чувствовал себя ни тронутым, ни поражённым тем, что я видел, — я заметил у моих ног гроб. То был простой, сколоченный из досок, голый гроб, последнее ложе бедняка, в котором, невзирая на его плотно заколоченную крышку, я ясно различал отвратительный, с оскаленными зубами череп и весь исковерканный, сломанный и на многие части разбитый мужской скелет, который, казалось, был вынесен из залы пыток усопшей инквизиции, где его злополучный владелец был истолчен в порошок страшными орудиями этого средневекового "святого" учреждения.
"Кто бы это мог быть?.." — подумал я. В эту минуту я снова услыхал свой голос... "Знать причину...", — произнёс он эти слова так, как будто бы они были непрерывным продолжением одной и той же сказанной мною и теперь повторяемой фразы. Голос звучал близко, и вместе с этим словно он раздавался где-то далеко, невообразимо далеко, на другом конце земного шара, вынуждая меня к впечатлению, что всё это долгое подземное странствование, последующие за сим размышления и открытия не имели никакой продолжительности, были совершены в короткий, почти мгновенный интервал времени между первыми и средними словами произнесённого мною желания; что они были начаты, во всяком случае, если в сущности и не произнесены вслух, моим голосом в Японии, и теперь только окончены.
Безобразные, изуродованные останки начали постепенно шевелиться под моим устремлённым на них взглядом. Они преображались, принимали для меня всё более и более знакомый образ. Не торопясь и как бы с большой аккуратностью, разбитые части соединялись одна с другою. Кости покрылись плотью, и с чем-то похожим на удивление, но без малейшего чувства горя или даже волнения, я узнал в этих искалеченных останках Карла, мужа моей дорогой сестры, родного зятя. "Но как же это случилось, как мог он дойти до такой, по-видимому, ужасной смерти?" — задал я мысленно себе вопрос; а то состояние, в котором я тогда находился, очевидно, давало возможность к немедленному исполнению всякого моего желания.
Едва эта мысль промелькнула у меня в уме, как я увидел, словно в панораме, давно, как видно, прошедшую картину событий смерти бедного Карла во всей её ужасающей реальности и до малейшей из её страшных подробностей. Вот он стоит передо мною полный жизни и сил, надежд и радости, только что получивший от своего принципала доходное место. Он рассматривает громадную, только что полученную лесопильную машину на их заводе; пробует в первый раз присланное из Америки чудовище, и оно пыхтит, ревёт и начинает двигаться под всё увеличивающейся силою пара. Он наклоняется над нею, чтобы лучше рассмотреть механизм внутренних колес и завинтить покрепче винт. Полы его рабочего платья попадают между зубцами крутящихся на полном ходу колёс, и он мгновенно втягивается, потеряв равновесие, и падает вниз... Он скручен и истерзан в одно мгновение ока; и прежде, нежели незнакомые с механизмом рабочие могут остановить её, машина-чудовище уже отпилила и отбросила его ноги в отдел готовых досок! Его вынимают или, скорее оставшиеся от него куски — мёртвого, истерзанного в клочки, ужас наводящей, какой-то неузнаваемой массой ещё трепещущего мяса и крови! Я следую за его останками, сложенными под куском полотна на ручной тачке, которую тихо катят перед собою двое бледных, растерянных рабочих. Его отвозят в госпиталь, но тут раздаётся грубый голос лазаретного надсмотрщика, приказывающего свести эту "вещь" обратно, откуда взяли, домой, к вдове и сиротам, которые, быть может, примут на себя его похороны. "В больницы мёртвых не принимают". Снова я следую за этой процессией смерти, и нахожу весёлое, ничего не подозревающее семейство в небольшой чистой столовой: оно ждёт мужа и отца к обеду. Я вижу мою сестру, дорогую и многолюбимую, и остаюсь равнодушным зрителем сцены, чувствуя одно тупое любопытство узнать, чем всё это кончится. Моё сердце, чувства, даже моя личность будто совершенно исчезли, передались другому, которому они теперь и принадлежат, тогда как я сам, в своей новой личности, стою равнодушный и смотрю на разыгрывающуюся передо мною драму. Я вижу, как неприготовленная к постигшему её несчастию сестра моя получает неожиданное известие. Я сознаю, мгновенно и безошибочно, без малейшего колебания, последствия этого ужасного для неё удара и с любопытством слежу за происходящим в ней занимательным внутренним психо-физиологическим процессом. Слежу и запоминаю всё до малейшей подробности, не забывая ничего.
Я слышу, во-первых, пронзительный, долгий, отчаянный крик, потом произнесённое сестрою моё имя, а затем глухой звук от тяжёлого падения живого на останки мертвого тела. Далее я слежу за быстрыми, почти неуловимыми изменениями в её мозгу и внимательно наблюдаю за червеобразным ускоренным и до чрезмерности напряженным движением трубчатых фибров; за мгновенной переменой цвета в головной оконечности нервной системы, за переходом волокнистого вещества нервов из белого в ярко-красный, а затем и в тёмно-красный, синеватый цвет. Замечаю, как внезапно вспыхивает фосфорическая, необычайно блестящая лучезарность в её мозговой оболочке, вижу, как она мерцает, снова вспыхивает, дрожит, темнеет и, окончательно исчезнув, как всё вокруг неё потухает... За этим наступает мрак — полнейшая, без малейшего проблеска в области памяти мгла, увеличивающаяся всё более и более по мере того как эта лучезарность, всё удлиняясь и принимая, наконец, призрачную форму тела, вдруг как бы проскользнув через темя из головы, рассеивается и исчезает, а я говорю про себя: "Это — безумие, неизлечимое, на всю оставшуюся жизнь помешательство, потому что принцип рассудка не временно заснул, но оставил своё хранилище навеки". И за этой мыслью я снова и в третий раз слышу мой далёкий и вместе с тем близкий "голос", произносящий возле меня с особенным ударением слова: "...Почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать"... Но ещё до окончания последнего слова я вижу перед собою длинный, почти нескончаемый ряд несчастных событий.
Я вижу мать семейства, вследствие постигшего её удара, беспомощной, неизлечимой идиоткой в палате умалишенных при городской больнице, а детей в приюте нищих сирот. В довершение всего, я вижу племянников, мальчика пятнадцати лет и девочку, годом моложе, моих двух любимцев, взятых в услужение незнакомыми людьми. Шкипер купеческого судна увозит первого, а старая жидовка удочеряет слабую здоровьем девочку. Да, я вижу все эти события со всеми леденящими кровь подробностями.
Заметьте: если я употребляю такие выражения, как "леденящие кровь", "ужасные" и т. д., они являются выражением лишь последующих моих чувств. Во всё время вышесказанного видения я не ощущал ни горя, ни жалости. Чувства мои были, как уже сказано, парализованы так же, как и наружные ощущения. Только вернувшись "назад", я осознал во всей полноте весь ужас моих утрат.
Многое из того, что я так страстно отрицал тогда, теперь, благодаря собственному печальному опыту, я должен признать. Если бы мне сказали в то время, что человек может действовать, думать или чувствовать независимо от его мозга или органов чувств, скорее благодаря какой-то таинственной, по сей день непонятной силе, если бы кто-то сказал мне, что меня в уме могло перенести за тысячи миль от моего тела, чтобы я стал свидетелем не только настоящего, но и прошедшего и запомнил увиденное, поместив его в свою память, — я бы, наверное, объявил этого человека сумасшедшим. Увы, теперь я уже не смог бы сделать этого, потому что теперь я сам стал тем самым "сумасшедшим". Десять, двадцать, сорок раз в течение всей этой несчастной жизни мне пришлось испытать и пережить такие моменты существования вне моего тела. Да будет проклят тот час, когда эта ужасная сила была пробуждена во мне! У меня даже нет последнего утешения: отнести эти события к душевной болезни. Когда сумасшедшие бредят и видят то, чего нет, они видят это в том мире, к которому они не принадлежат. Мои же видения всегда оказывались точными. Но вернёмся к моему печальному рассказу...
Едва я успел увидеть свою племянницу в её новом израильтянском семействе, как снова почувствовал такой же толчок, как и тот, что заставил меня плыть (как мне показалось) над земною поверхностью. Я открыл глаза, и первый бросившийся мне в глаза предмет случайно и безо всякого на то с моей стороны желания — были стенные часы. Стрелки показывали ровно семь с половиною минут шестого!..
В продолжение одной или двух секунд я ничего не помнил из виденного мною. Интервал между временем, когда я взял из рук ямабузи зеркало, и моим последним взглядом на часы, казался мне слившимся в одно, и я только что приготовился просить ямабузи поспешить с его опытом надо мною, когда с быстротою молнии полное воспоминание о случившемся вдруг мелькнуло у меня в уме, обдав мозг словно кипятком. Испустив крик ужаса и отчаяния, я почувствовал, будто на меня свалилась, раздавливая своею тяжестью, вся вселенная. С минуту я оставался безмолвным, чувствуя себя олицетворением человеческой развалины среди целого мира смерти и опустошения. Биение сердца остановилось; я задыхался. Свершилась моя судьба, и безрассветная мгла покрыла навеки будто траурной пеленою весь остаток моей жалкой жизни.
V. Возвращение сомнений
Но затем так же быстро, как и моё отчаяние, явилась реакция. Сомнение закралось в душу, которое и разгорелось немедленно в свирепое желание отвергнуть возможность действительности всего увиденного мною; упрямое решение взирать на случившееся как на пустой, бессмысленный сон, на эффект расслабленного долгим беспокойством воображения. Дух отрицания овладел мною неудержимо. Да, то было лишь лживое видение, нелепый фокус, произведённый с моими чувствами, вдруг представившими мне картины смерти и страдания вследствие целых недель и месяцев моего нравственного и нервного состояния.
— Как мог я видеть всё то, что я видел и слышал, в менее нежели полминуты?! — воскликнул я.
Одна только теория о сновидениях, быстрота, с которой вещественные изменения — от коих зависят идеи в наших снах — возбуждаются в гемисферических наростах, может объяснить тот длинный померещившийся мне ряд событий в такой короткий интервал времени. В одних сновидениях может так бесследно исчезать и уничтожаться всякое отношение между пространством и временем. Ямабузи ни при чём в этом неприятном кошмаре. Он воспользовался и пожинает лишь то, что посеяно мною самим; посредством какого-то адского, тайного, одним этим обманщикам известного зелья ему удалось заставить меня впасть на несколько секунд в бесчувственное состояние и вообразить видение — отвратительное и ужасное, но настолько же и лживое!.. Прочь от меня такие мысли! Я им не верю... Ещё несколько дней терпения, и в Европу должен отправиться пароход... Завтра же я уезжаю из Киото!
Этот бессвязный монолог я проговорил громко, невзирая на присутствие моего уважаемого друга Тамуры и ямабузи. Последний стоял передо мною в той же позе, когда вручил мне зеркало, и продолжал глядеть на меня, или правильнее выражаясь, глядеть сквозь меня — спокойно и в величавом молчании. Бонза, добродушное и кроткое лицо которого выражало самое искреннее ко мне участие, приблизился ко мне, точно к больному ребёнку, и ласково положил свою руку на мою:
— Друг, — сказал он, — вы не должны уезжать отсюда до полного очищения от соприкосновения с низшими духами — дайдж-дзинами и не приняв мер к ограждению вашей души от нападений этих неразвитых тёмных сил природы. Вы должны позволить нам запереть вход к ней...
Не теряйте же времени и позвольте святому мастеру, стоящему перед вами, очистить вас немедленно.
Вместо благодарности он получил от меня суровый и грубый отказ, поток насмешек над его идеей, что я способен усмотреть в этом видении что-либо кроме пустого сновидения, а в ямабузи — нечто более наглого фокусника.
— Я выезжаю завтра же, даже если бы мне пришлось для этого потерять всё моё состояние! — воскликнул я.
— Вам придётся раскаиваться целую жизнь, если вы оставите Киото прежде, чем очиститесь от влияния тёмных сил... А это может быть совершено только этим святым старцем!.. — испуганно уговаривал меня бонза. — Дайдж-дзины всегда настороже у открытых дверей, и они вас одолеют!..
Я прервал его грубым смехом и ещё более грубо осведомился о размере платы, должной мною этому "святому старцу" за сделанный им надо мною опыт.
— Ему не нужны ваши деньги, — получил я в ответ. — Он принадлежит к самому богатому в мире Братству; члены его ни в чём не нуждаются, возвысясь надо всем земным, а стало быть, и над жаждою богатства. Не оскорбляйте кроткого и доброго человека, который пришёл к вам на помощь единственно из чистого сострадания к вашему горю и с желанием облегчить его...
Но я отказался внимать этим разумным и мудрым речам. Дух гордости и возмущения овладел мною неудержимо, заставил забыть всякое чувство личного уважения и дружбы и довел меня до забвения простого приличия. Счастьем было для меня то, что когда в бешенстве я повернулся к престарелому аскету с намерением выгнать его из дома как обманщика, его уже не было в комнате.
Я не заметил, как он вышел, а позднее вспомнил, что, решившись подвергнуть себя его чарам, сам запер входную дверь на ключ, который и лежал на столике нетронутым. Как мог он выйти? Но в ту минуту я приписал его исчезновение трусливому бегству вследствие того, что я вывел его на чистую воду.
О безумный, слепой, тщеславный идиот! Зачем отказывался я тогда признать могущество ямабузи, как не понял, не осознал я в ту роковую для меня минуту, что с его удалением разрушалось навеки спокойствие целой жизни моей!.. Но я не сознавал в то время ничего подобного. Даже роковой демон, вызвавший всю эту сцену — неизвестность о судьбе любимых, — оказался теперь вполне покорённым более могущественным бесом, хотя и неразумнейшим из всех, — слепым скептицизмом. Тупое, болезненное неверие, упрямое отрицание очевидности собственных чувств и непоколебимая решимость взирать на всё видение как на фантазию моего усталого, измученного догадками мозга, овладели мною бесповоротно. Так велико было моё ослепление, что я даже не обратил внимания на благоразумный совет моего старого друга бонзы, советовавшего мне телеграфировать нюренбергским властям о моём скором приезде и, в случае какого-либо несчастия с родителями, просить их приказать присмотреть за детьми. Я отверг совет с полным презрением. Последовать ему равнялось сознанию, что в моём глупом видении могла быть хоть какая-то доля правды, что я допускал возможность прозревать события на другом конце света внутренним душевным зрением (нелепое выражение!), и что в том, наконец, что мне пригрезилось, было нечто более химеры пустого сновидения.
— Мой разум, моя душа, — рассуждал я, отвечая на увещевания бонзы, — что такое всё это в сущности? Неужели же мне следует, по-вашему, уверовать наравне с суеверными глупцами, что это произведение фосфора и старого мозгового вещества есть высшая часть самого меня; что оно действует и зрит помимо моих физических чувств? Никогда и ни за что! Так же, как я никогда не смогу поверить в "мудрость" планет астрологии или в "дайдж-дзина". Как я могу признаться в том, будто верю, что Юпитер, Солнце, Сатурн и Меркурий — это действующие силы? И эти достойные силы управляют каждая своей сферой, и эти сферы заботятся о судьбах смертных? Разве могу я всерьёз считать, что какие-то воздушные бестелесные образования могли руководить моей "душой" во время этого неприятного сновидения? Да я с отвращением смеюсь при одной только глупой мысли об этом. Я считаю оскорбительным для моего интеллекта и для силы человеческого разума говорить о невидимых существах, о субъективных знаниях и тому подобных сумасшедших суевериях.
Короче говоря, я попросил своего друга бонзу избавить меня от ненужных споров и тем самым сохранить нашу дружбу.
Вот так я безумно и страстно спорил с почтенным японцем, стараясь изо всех сил заставить его поверить в то, что внезапно сошёл с ума. Но его поразительное терпение оказалось более чем равным моей глупой страсти. И он ещё раз стал умолять меня ради будущего позволить провести над собой определённые и необходимые очистительные обряды.
— По-моему, — продолжал я, перефразируя известное изречение Рихтера, — "всё же лучше жить в воздухе, разрежённом донельзя воздушным насосом здорового неверия", нежели "в густом тумане глупого суеверия"! Не верю и не хочу верить! — повторял я, — но так как мне становится более не под силу бороться с такою неизвестностью о судьбе сестры, то я и еду в Европу...
И я действительно уехал спустя три дня, не видав более моего приятеля бонзу и даже не простясь с ним. Он, очевидно, чувствовал себя огорчённым, быть может, серьёзно оскорблённым моими более нежели непочтительными, грубыми и обидными отзывами о человеке, которого он так справедливо почитал; и его последние слова прощания в тот навеки памятный мне вечер были:
— Друг, молю, чтобы вам не пришлось раскаяться в своём неверии и опрометчивости. Да простит и охранит вас благословенная Кван-Он (богиня милосердия) от злых дзинов (духов) — потому что теперь, когда вы напрямик отказываетесь подвергнуть себя очистительному обряду, предлагаемому вам святым ямабузи, более не в его воле охранить вас от дурного влияния тёмных сил, вызванных вашим неверием и презрением к истине. Простите.
Но позвольте мне в час прощания просить, умолять вас выслушать старика, который желает вам добра и хочет предупредить об опасности, убедить вас в существовании вещей, о которых вы до сих пор ничего не знаете. Могу ли я говорить?
— Продолжайте и говорите всё, что хотите сообщить, — грубо согласился я. — Но позвольте предупредить вас в свою очередь, что ничего из того, что вы можете сказать сейчас, не заставит меня поверить в ваши позорные суеверия, — добавил я с чувством жестокого удовольствия, которое доставило мне ещё одно бессмысленное оскорбление.
Но этот прекрасный человек не обратил внимания на новые насмешки. Я никогда не забуду торжественной серьёзности его прощальных слов и сочувствующего, полного раскаяния выражения его лица, когда он понял, что все его просьбы бесполезны и его доброжелательное вмешательство только погубило меня.
— Прислушайтесь к моим словам, мой добрый господин, — начал он, — и узнайте, что если этот святой и почтенный человек, который открыл ваше "зрение души", чтобы избавить вас от переживаний, не завершит работу, ваша будущая жизнь вряд ли будет достойна называться жизнью. Ему нужно защитить вас от невольных видений такого же рода. Если вы не согласитесь на это по собственной воле, то останетесь во власти сил, которые будут держать и преследовать вас, доводя до безумия. Знайте, что "развитие дальнего видения" (ясновидение) доступно по собственной воле лишь тому, от кого у Матери Милосердия, великой Квон-Он, нет тайн. Начинающие должны обращаться за помощью к воздушным силам (первоначальным духам), которые по природе своей бездушны и поэтому злобны. Знайте также, что лишь Архат (поражающий врага) подчинил себе эти существа, превратив их в своих слуг, и ему нечего бояться. Те же, кто над ними невластны, становятся их рабами. Нет, не смейтесь в своей великой гордыне и невежестве, но слушайте дальше. Во время видения и в то время, когда внутренние органы чувств видящего направлены на восприятие событий, которые его интересуют, дайдж-дзин полностью овладевает им, если он, как и вы, неопытен, и в это время видящий перестаёт быть самим собой. Пока человек находится в этом состоянии, дайдж-дзин, который направляет его внутренний взор, надолго делает его душу низкой и подлой, превращая его на этот промежуток времени в существо подобное ему самому. Лишаясь божественного света, человек становится бездушным. Пока он связан с дайдж-дзином, он не будет знать человеческих чувств — ни жалости, ни страха, ни любви, ни милосердия.
— Подождите! — невольно воскликнул я, так как его слова ясно вызвали в моей памяти то равнодушие, с которым я смотрел на отчаяние сестры и внезапную потерю разума, которую она пережила во время моей галлюцинации. — Подождите... Ну нет, это было бы ещё большим безумием для меня прислушиваться или искать какой-то смысл в вашей смехотворной истории! Но если вы знали, что это будет так опасно, почему вы посоветовали мне провести этот опыт? — добавил я насмешливо.
— Опыт должен был продолжаться всего несколько секунд и не причинил бы вам никакого зла, если бы вы сдержали своё обещание и позволили провести обряд очищения, — последовал печальный и скромный ответ. — Я желал вам добра, друг мой, сердце моё разрывалось при виде ваших страданий, которые усиливались с каждым днём. Этот опыт безвреден, если его проводит тот, кто знает, и становится опасным, когда последней предосторожностью пренебрегают. Тот самый Владыка Видений, который открыл вход вашей души, должен сам закрыть его, воспользовавшись особой печатью очищения, которая защищает от дальнейших, уже намеренных вторжений...
— Владыка Видений! Вы только послушайте! — вскричал я, грубо обрывая его, — сказали бы лучше: Владыка Обмана!
Его доброе старое лицо стало таким печальным, в нем была такая боль, что я понял, что зашёл слишком далеко, но было поздно.
— В таком случае, прощайте! — сказал старый бонза, поднимаясь. И, совершив обычный церемониал вежливого прощания, Тамура вышел из моего дома в молчании, исполненном достоинства.
VI. Я уезжаю, но не один
Несколько дней спустя я отплыл из Японии. Всё это время я не видел моего почтенного друга бонзу. Очевидно, в тот последний, навеки памятный для меня вечер он был действительно серьёзно обижен моим более чем непочтительным обхождением и оскорбительными замечаниями о человеке, которого он почитал. Мне было жаль его, но колесо страсти и гордыни непрерывно вращалось во мне и не позволяло хотя бы на мгновение почувствовать раскаяние. Что же это было, что заставляло меня так наслаждаться своим гневом? Как только я на какое-то мгновение забывал о предполагаемой обиде, которую нанёс мне ямабуши, я тут же словно плеткой подхлестывал свой искусственный гнев. Ведь он совершил только то, что от него ожидали, и то, на что я молчаливо согласился; более того, я сам лишил его возможности сделать для меня больше ради моей же собственной безопасности. Если бы я только поверил бонзе, человеку, которого считал совершенно честным и надежным. Может быть, это было сожаление о том, что моя гордость вынудила меня отказаться от предложенных предосторожностей, или страх раскаяния, который заставлял меня в те долгие часы выкапывать и собирать в кучу малейшие подробности предполагаемых оскорблений, которые были нанесены моей самоубийственной гордыне? Раскаяние, как правильно отметил один старый поэт, похоже на сердце, в котором они рождаются:
...когда в душе печаль и гордость, |
Возможно, страх перед чем-то подобным стал причиной моего упрямства и, бросая мне вызов, позволил простить себе ничем не спровоцированные оскорбления, которыми я осыпал моего доброго и всепрощающего друга бонзу. Однако было уже поздно, и вернуть свои слова я уже не мог, поэтому мне пришлось удовлетвориться лишь тем, что я пообещал себе послать ему дружеское письмо, как только доберусь до дома. Глупцом, слепым глупцом, вдохновленным собственным наглым самодовольством, вот кем я был! Я был настолько уверен, что моё видение — результат какого-то трюка ямабуши, что уже злорадно предвкушал, с каким торжеством я напишу бонзе о том, что вполне справедливо отвечал на его горькие слова прощания презрительной усмешкой, так как и моя сестра, и её семья были здоровы и счастливы!
Но я не пробыл в море и недели, когда случилось нечто такое, что заставило меня невольно вспомнить их! С самого дня описанных мною событий видения (в зеркале) я стал замечать в себе большую перемену, как нравственно, так и физически, но постоянно приписывал её сильному беспокойству, повлиявшему на моё здоровье и нервную систему. Часто, среди многолюдного общества пассажиров, даже днём, неожиданно и безо всякой к тому причины я внезапно терял на несколько минут сознание об окружающих меня особах и о том, где я находился, и видел себя в других, незнакомых мне местах. Ночи я проводил беспокойно, а когда засыпал, то являющиеся мне сновидения были тяжёлые, часто перемешанные с ужасными сценами. Моряком я был хорошим, в том смысле, что не знал, что такое морская болезнь, да к тому же и наше путешествие выдалось необычайным в этом отношении: во всё время погода стояла чудесная, а море было глаже всякого пруда. Несмотря на это, со мной часто происходили странные головокружения, и в такие минуты знакомые мне физиономии пассажиров принимали самые безобразные и смешные выражения и даже преобразовывались (в моих глазах) совсем в другие лица. Так, один хорошо знакомый со мною юный немец вдруг превратился передо мною в своего отца, похороненного нами три года до того на маленьком кладбище европейской колонии в Киото. Мы разговаривали с ним стоя у борта, на палубе, о делах его покойного родителя, когда вдруг голова Макса Грюннера показалась мне покрытой точно беловатой плевою, а сам он — окружённым густым сероватым туманом, который, как бы оклеив его наружно с ног до головы каким-то прозрачным веществом и покрыв все черты его здорового, цветущего лица словно слепком, вдруг сгустился и преобразовался в старую, желтовато-бледную голову, похороненную на моих глазах. В другой раз я увидал возле капитана, рассказывавшего нам историю одного пойманного им и засаженного в тюрьму малайца, вора и убийцу, жёлтое, безобразное лицо, в котором я мысленно признал последнего. Я никогда не говорил о подобных галлюцинациях: по мере того как они учащались, я чувствовал себя очень встревоженным, хотя и продолжал относить их к вычитанным мною в медицинских книгах естественным причинам.
В одну ночь я был внезапно разбужен громким и пронзительным криком: то был женский голос, жалобный, как у ребенка, полный ужаса и беспомощного отчаяния. Я проснулся и тут же очутился в незнакомой мне комнате, на суше, и свидетелем следующей омерзительной сцены. Молодая девушка, почти ещё ребенок, отчаянно боролась с сильным мужчиной средних лет, проникшим ночью с недобрым намерением в её комнату во время её глубокого сна. За запертою — на ключ — дверью, я заметил прислушивающуюся старуху, лицо которой, невзирая на его тогда искажённое, почти демоническое выражение, показалось мне знакомым: то была еврейка из моего видения в Киото! Я тотчас узнал и её, и её самые затаённые мысли. Она получила много золота за помощь в совершении ужаснейшего преступления и теперь оставалась верной своей роли в этой драме разврата. Но кто же жертва? Проклятие!.. Невообразимый ужас!.. Только позднее, придя в себя, в пароходной каюте, я сообразил тотчас же, что это была моя родная племянница, девочка-сирота, и что я приеду слишком поздно!
Но, как и в первом моём видении, глядя на страшную разыгранную передо мною сцену, я ничего не чувствовал: ни отчаяния, ни сострадания, ни даже простой жалости или отвращения. В такие минуты во мне замирало всякое родственное чувство при виде несправедливости и причиняемого любимым мною особам страдания, замирало всё, кроме естественного и столь знакомого всякому честному человеку чувства негодования, овладевающего им, когда он делается свидетелем злоупотребления грубой силой в отношении слабого, беззащитного существа. Я бросился, конечно, к ней на помощь и вцепился в горло распутному, грубому животному.
Я стиснул его шею как в тисках, но, к моему неописуемому изумлению, он, казалось, и не заметил моего нападения, не чувствовал моей сильной руки, даже не обратил на меня внимания! Низкий преступник, видя как бьётся, сопротивляясь ему, его невинная жертва, поднял в бешенстве свой мощный кулак и одним ударом, направленным в золотокудрую головку, он поверг бедного окровавленного ребенка на землю. С громким криком негодования, с рычанием защищающей детеныша тигрицы я прыгнул на негодя, стараясь задушить его. Но тут только, и впервые, я осознал с чувством незнакомого мне дотоле страха, что я был только тенью, старавшейся схватить другую, такую же тень!
Мои пронзительные крики и проклятия разбудили всех пассажиров. Их отнесли к кошмару. Я не старался разубедить их, не повторял никому своих странных видений, но с того самого дня моя жизнь сделалась одним длинным рядом нравственных пыток. Я почти не мог закрыть глаз без того, чтобы не сделаться свидетелем какого-нибудь ужасного события, той или другой сцены страдания, смерти или преступления — в прошлом ли, совершённого в минуту видения, или даже будущего, — как я убедился по проверке позднее. Точно какой насмешливый демон задался целью вынуждать меня проходить через длинный ряд панорам всего самого порочного, омерзительного, преступного и грешного в этом мире слёз и страданий. Никогда светлый призрак красоты или добродетели не освещал малейшим лучом своим эти картины горя и мучений, в которых я казался обречённым быть невольным свидетелем. Сцены преступления, смертоубийства, измены и разврата проходили нескончаемой ужасной вереницею в моих видениях, сопровождаемые слышным одному мне хохотом демонов, и я был принужден проводить жизнь лицом к лицу с самыми отвратительными результатами грубых людских страстей, с эссенцией самой материальной земной похоти человека.
Неужели бонза действительно предвидел эти самые страшные последствия, когда он так настаивал на "очищении", говорил о дайдж-дзинах, которым вследствие моего упрямства я оставлял "отпертую в себя дверь"? Бредни!.. Не верю!.. Во мне просто происходит какая-нибудь физиологическая перемена, аномальный беспорядок нервов. Может дома, в Нюренберге, когда я смогу убедиться, какое фальшивое направление приняли мои опасения, — я уже не смел надеяться на отсутствие всякого несчастия, — эти бессмысленные видения исчезнут так же быстро, как они и явились. Лучшим для меня доказательством служит то, что моя фантазия следует постоянно по одному направлению: я вижу одни картины горя и земных страстей в их худшей, самой грубо-материальной форме.
"Если, как вы говорите, человек состоит из одного вещества — материи, основы физических чувств; а его представления с видоизменениями есть просто результат органического устройства нашего мозга, то в таком случае мы должны весьма естественно быть привлекаемы к одному материальному, грубо вещественному, к земному?" — послышался мне во время одного такого рассуждения голос бонзы, прервавший мои размышления и повторявший часто употребляемый им в наших спорах аргумент.
Я вздрогнул, и тот же голос продолжал раздаваться внутри меня с ясностью, превышающей всякую действительность:
"Для человека существуют в природе два рода видений: в области неумирающей вечной любви и духовных стремлений, прямо истекающих из вечной лучезарности; и в области беспокойной, вечно изменяющейся материи, в вещественном свете, в которой так любят нежиться и шалить дайдж-дзины..."
VII. Вечность в кратком сновидении
В те дни я не допускал нелепости верования в каких-либо "духов" — хороших, дурных или посредственных. Но я понял значение слышанных мною слов, хотя всё ещё не верил в существование "духов", продолжая надеяться, что все такие "видения" окажутся подходящими под категорию физического расстройства, то есть просто нервной галлюцинации.
Чтобы подкрепить своё неверие, я постарался восстановить в памяти все аргументы, которые выдвигались против подобных суеверий. Я вспомнил острый сарказм Вольтера, спокойные рассуждения Юма и до тошноты повторял про себя слова Руссо о том, что "суеверие — это нарушитель общественного порядка и с ним нельзя не бороться всеми силами". "Каким образом видения или, скорее, фантасмагории, — приводил я доводы, — то, что в состоянии бодрствования мы находим лживым, вообще оказывают на нас воздействие? Почему
Слова, где смысла нет, |
Однажды старый капитан рассказывал нам о различных суевериях, которые бытуют среди моряков, и надутый английский миссионер заметил, что ещё Филдинг объявил: "Суеверия делают человека глупцом", после чего он на мгновение замялся и вдруг замолчал. Я не принимал участия в разговоре, но не успел почтенный миссионер произнести цитату, как я заметил в небольшом слабом сиянии мерцающего света, который я видел теперь почти постоянно над головой каждого пассажира, продолжение его мысли: "А скептицизм делает его сумасшедшим".
Я слышал и много читал о тех, кто объявляет себя ясновидящими, и о том, что они часто видят мысли людей нарисованными в ауре, которая их окружает. Что бы слово "аура" ни значило для других, теперь я на собственном опыте убедился в истинности этих претензий и почувствовал совершенное отвращение! Я — ясновидящий! В моей жизни появилась ещё одна ужасная вещь, ещё один глупый и смешной дар развился во мне, который придётся скрывать ото всех, поскольку я стыдился его, словно проказы. В этот самый момент моя ненависть к ямабуши и даже к моему почтенному другу бонзе стала непреодолимой. Первый, видимо, выполнил надо мной какие-то манипуляции, пока я лежал без сознания, и коснулся какой-то неизвестной физиологической пружины в моём мозгу. Она соскочила со своего места и теперь пробудила во мне способность, которая в обычном состоянии остается скрытой в человеческом организме, а мой друг сам привёл в дом это несчастье!
Но гнев и проклятия были бесполезны и вряд ли могли что-либо изменить. Кроме того, мы были уже в европейских водах и до Гамбурга оставалось всего несколько дней пути. Там все мои волнения и страхи улягутся, и я, к своему большому облегчению, узнаю, что хотя ясновидение как чтение мыслей человека, может быть, и существует, но познание событий на расстоянии, как это случилось в моём сновидении, невозможно для человека. Тем не менее, вопреки доводам разума, сердце моё переполняли страхи и самые чёрные предчувствия. Я понимал, что скоро свершится моя судьба. Я очень страдал, и душевное утомление возрастало с каждым днем.
В ночь перед нашим прибытием у меня был очередной сон. Я вообразил, что умер. Моё холодное и неподвижное тело лежало в последнем сне. Умирающее сознание, которое до сих пор считало себя моим "я", поняло, что произошло, и готовилось через несколько секунд прекратить своё существование. Я всегда верил, что мозг сохраняет тепло дольше остальных органов человеческого тела, что он последний прекращает функционировать, и мысль, таким образом, живёт на несколько секунд дольше человеческого тела. Поэтому я нисколько не был удивлён, увидев во сне, что моё тело уже перешло через ужасную реку и попало туда, "откуда ни один смертный ещё не возвращался", а сознание всё ещё оставалось в каких-то серых сумерках, первых тенях Великой Тайны. Таким образом, моя Мысль, всё ещё покоившаяся в моих останках, которые быстро теряли крупицы жизни, с сильным и горячим любопытством ожидала своего распада, то есть своего уничтожения. "Я" спешил испытать свои последние ощущения, пока тёмный плащ вечного забвения не накрыл меня, пока у меня было время чувствовать и наслаждаться тем великим высшим торжеством, которое давало мне знание того, что мои убеждения, которым я оставался верен всю мою жизнь, были истинными, и что смерть — это полное и абсолютное прекращение сознательного существования. Вокруг меня с каждым мгновением становилось всё темнее и темнее. Огромные серые тени проходили перед глазами. Сначала медленно, потом убыстряясь, они замелькали вокруг меня с головокружительной скоростью. Целью движения, казалось, было всего лишь достижение темноты, и как только цель была достигнута, движение замедлилось. Темнота превратилась в глубокую черноту, движение полностью прекратилось. Мои чувства не воспринимали ничего кроме этого бездонного чёрного пространства, тёмного, как смола. Оно казалось мне таким же безграничным и молчаливым, как безбрежный Океан Вечности, по которому Время, это порождение человеческого мозга, скользит, но никак не может его пересечь.
Катон определил сон как "образ наших надежд и страхов". В состоянии бодрствования я никогда не боялся смерти, и теперь во сне я спокойно и равнодушно отнёсся к мысли о своём скором конце. По правде говоря, эта мысль даже принесла мне облегчение, наверное, её вызвали пережитые мною недавно страдания. Конец всего, всех сомнений, страхов о судьбе тех, кого я любил, мысли об их страданиях, конец всем беспокойствам был близок. Постоянная боль, которая непрерывно терзала моё сердце в течение долгих и утомительных месяцев, сейчас становилась невыносимой. И если, как считает Сенека, смерть — это всего лишь "прекращение того, чем мы были перед этим", то было бы лучше, если бы я умер. Моё тело мертво. Его сознание — это всё, что от него остается. Ещё несколько мгновений — и я последую за ним. Восприятие моего сознания станет всё слабее, всё расплывчатее и туманнее, пока желанное забвение не накроет меня полностью своим холодным саваном. Нежна волшебная рука смерти — этого великого утешителя мира. Глубок сон в её неподатливых руках, его никогда не беспокоят сновидения. Да, действительно, смерть — желанный гость... Это спокойное, мирное убежище среди ревущих валов океана жизни, чьи крутые волны тщетно разбиваются о скалистые берега смерти. Счастлив тот, чей одинокий барк входит в спокойные воды её чёрного залива после долгого и жестокого шторма, после сердитых ударов внешней, чувственной жизни. Теперь, на вечной якорной стоянке, ему больше не понадобятся ни паруса, ни руль. И мой барк наконец-то обретёт покой. Так добро пожаловать, о Смерть, тем более за столь соблазнительную цену! Прощай, моё бедное тело. Хоть я и не пытался ни ублажать тебя, ни доставлять тебе наслаждения, и теперь с готовностью отдаю!..
С этим гимном, посвящённым смерти, который я спел над распростертым телом, я наклонился над своими останками и с любопытством их рассмотрел. Я чувствовал, что окружающая темнота почти ощутимо давит меня, и я вообразил, что чувствую в её прикосновении приближение желанного Освободителя. И всё же как странно! Если реальная, окончательная смерть происходит в нашем сознании, если после телесной смерти "я" и моё сознательное восприятие соединяются воедино, почему же моё восприятие не слабеет, почему функции моего мозга кажутся столь активными, как и всегда?... Ведь я, по существу, умер?... И теперь обычное чувство беспокойства не уменьшается, не слабеет, нет, даже более того, оно кажется сильнее!.. Как долго приходится ждать прихода полного забвения!.. А, вот оно, моё тело!.. На одну или две секунды оно исчезло из моего поля зрения, а потом снова появилось. ... Какое оно белое и отвратительное! И всё же... его мозг ещё не совсем мёртв, если "я", его сознание, ещё действует, поскольку мы оба до сих пор воображаем, что существуем, что живём и думаем, отделённые от своего создателя и его мыслящих клеток.
Вдруг я почувствовал сильное желание узнать, как долго может продолжаться процесс распада мозга, когда, наконец, последняя печать смерти ляжет на мозг и прекратит его деятельность. Я осмотрел свой мозг в черепной коробке через прозрачные для меня стенки черепа и даже прикоснулся к мозговому веществу. Как я это сделал? Собственными ли руками или нет, я не могу сказать. В этом сновидении на меня очень сильное впечатление произвело ощущение скользкого, чрезвычайно холодного вещества. К моему великому ужасу, я обнаружил, что кровь полностью свернулась, и мозговые ткани настолько изменились, что в них вряд ли возможно какое-либо молекулярное взаимодействие, и теперь я уже не мог объяснить происходящее деятельностью мозга. И вот "я", или моё сознание, что одно и то же, обнаружил себя самого совершенно независимым, отдельным от своего мозга, который больше не мог действовать... Но у меня уже не было времени на размышления. В моих ощущениях произошло новое, необычайное изменение, которое теперь поглотило всё моё внимание... Что бы это значило?...
Вокруг меня простиралось прежнее чёрное непроницаемое пространство, но теперь прямо передо мной, всё время прямо передо мной, куда бы я ни поворачивался, оставались гигантские круглые часы, огромный диск которых зловеще сиял на чёрном эбоните непроницаемого пространства. Когда я посмотрел на этот огромный циферблат и на медленно качающийся маятник, каждое движение которого, казалось, делило вечность на отдельные куски, я увидел тонкие иглы стрелок, которые показывали семь минут шестого... "Это время начала моей пытки в Киото!" — едва успел я подумать о совпадении, как вдруг, к моему невообразимому ужасу, я почувствовал, что снова начинается тот же самый процесс, который мне пришлось испытать в тот памятный и страшный день. Я плыл под землей, быстро пронзая её чёрную массу, я снова увидел себя в могиле бедняка и узнал своего зятя в изуродованных останках. Я снова стал свидетелем его смерти, вошёл в дом моей сестры, проследил за её страданиями и увидел, как она сошла с ума. Я снова испытал всё это и увидел всё до мельчайших деталей, но увы! Мои чувства больше не сковывало спокойное равнодушие, то самое равнодушие, которое в момент первого моего видения оставило меня бесчувственным свидетелем величайшего несчастья, словно я был каменной статуей, у которой нет сердца.
Теперь мои душевные муки стали неописуемы и почти невыносимы. Даже то привычное отчаяние и непрекращающееся беспокойство, которое я постоянно испытывал во время бодрствования, теперь в моём сновидении, когда передо мною снова и снова возникали увиденные события, показались мне лёгким облачком по сравнению со страшными свинцовыми тучами циклона. О, как я страдал среди этого роскошного пира адских мучений. Но теперь я уже не мог опереться на веру в то, что сознание человека умирает вместе с его телом, поскольку в этом видении я убедился в обратном. И это усилило страдания.
Я испытал относительное облегчение, вновь оказавшись после заключительной сцены видения перед огромными белыми часами. Но это продолжалось недолго, длинная заострённая стрелка на колоссальном циферблате показывала семь с половиной минут шестого. Не успел я как следует осознать произошедшее, как стрелка медленно двинулась назад и точно остановилась на седьмой минуте и ... О моя проклятая судьба!.. Опять повторилась цепь мучительных видений! Я снова плыл под землёй и видел, слышал и испытывал все мучения ада! Я прошёл сквозь всю душевную боль, которая только может быть известна человеку или дьяволу. Я снова вернулся к тому же самому месту перед циферблатом, после, казалось, вечных страданий, но стрелки на нём за это время, как и прежде, продвинулись только на полминуты. Я смотрел с ужасом, как они опять двинулись назад, и меня снова бросило в пространство. Это продолжалось снова и снова, раз за разом, так что стало казаться мне непрерывной чередой ужасных страданий, у которых не было начала и не предвиделось конца...
Но хуже всего было то, что моё сознание, моё "я", очевидно, приобрело способность утраиваться, учетверяться, даже удесятеряться. Я жил, чувствовал и страдал одновременно в полудюжине разных мест, переживая различные события своей жизни, которые происходили в разное время и при самых различных обстоятельствах, хотя по-прежнему главным оставался мой духовный опыт, полученный в Киото. Таким образом, как в знаменитой фуге "Дон Джованни" высокие душераздирающие ноты арии Эльвиры звучат намного выше всех остальных, но они не мешают развитию мелодии менуэта, песням соблазна и песням хора, так я снова и снова проходил через свои горести, переживая чувство невыразимой боли. Ужаснейшие сцены разворачивались перед моими глазами. Их повторение нисколько не притупляло боли и страданий, и даже в последних моментах и событиях, совершенно не связанных с первыми, эти чувства не становились слабее, и я всё переживал заново, ни одно из событий не заслоняло другое. Это было безумное страдание! Цепочки похожих на контрапункт душевных фантасмагорий были взяты из реальной жизни. И вот, так же, как и в видении в Киото, я в течение тех самых тридцати секунд осматривал изуродованные останки мужа сестры, с тем же равнодушием видел ужасное воздействие вести о смерти, и в то же время я испытывал адские муки при виде каждого события, как и тогда в Киото, когда сознание вернулось ко мне. Я слушал философские беседы бонзы, слышал каждое слово, которое он произносил, и снова пытался злобно смеяться над ним. Я снова становился ребёнком, потом юношей, слышал сладостные голоса моей матери и сестры, которые упрекали меня, корили за проступки и учили долгу перед всеми людьми. Я снова спасал друга, который чуть было не утонул, и смеялся над его старым отцом, когда он благодарил за то, что я спас душу его сына, что была ещё не готова предстать перед Создателем.
— И вы говорите о двойном сознании? Вы, психофизиологи! — вскричал я в момент невыносимого душевного страдания, которое казалось одновременно и физическим, достигая такой силы, что могло бы убить дюжину живых людей. — Вы говорите о физиологических и психологических экспериментах, вы, школяры, надутые и битком набитые гордыней и книжными знаниями! Сейчас я вам покажу вашу лживость...
И вот я снова читал труды великих профессоров и лекторов, разговаривал с ними, с теми людьми, которые привели меня к фатальному скептицизму. И хотя я оспаривал возможность отделения сознания от мозга, я плакал кровавыми слезами над предполагаемой судьбой моих племянников и племянниц. Но самое ужасное было то, что я знал, как может знать только освобождённое от тела сознание, что всё то, что видел в Японии, и то, что я видел и слышал сейчас, было истинным в каждом мгновении и каждой подробности, что это была длинная цепочка отвратительных и ужасных, но всё же реальных фактов.
Наверное, в сотый раз мой взгляд был прикован к стрелкам часов.
Я успел потерять счет циклам постоянного перемещения в пространстве и возвращения к циферблату, и очень скоро пришёл к заключению, что они, эти возвращения, никогда не прекратятся, что сознание всё-таки невозможно разрушить, и что эти циклы, их бесконечное повторение будут моим наказанием в Вечности. Я начинал понимать на собственном опыте, как должен себя чувствовать осуждённый за грехи. "Разве вечное проклятие математически возможно в непрерывно развивающейся вселенной?" — я всё ещё находил силы спорить. Да, в самом деле, в этот час всё усиливающегося страдания моё сознание, синоним моего "я", всё ещё было в силах восставать против некоторых претензий теологии, отрицать её утверждения, отрицать всё, кроме самого Себя... Нет, я больше не отрицал независимую природу моего сознания, поскольку убедился, что это так, но было ли оно вечно? О, непостижимая и страшная реальность! Если бы ты было вечным, кем бы ты было?! Тогда не было бы божества, не было Бога. Откуда ты пришло и когда появилось, если ты не было частью холодного тела, которое лежит теперь вот здесь, перед тобой, и куда ты привело меня, кто я теперь, и будет ли у нашей мысли и воображения конец? Каково твоё настоящее время? О, бездонная, неизмеримая Реальность! Непостижимая Тайна! О, я не могу уничтожить тебя... "Видения души". Кто тут говорит о душе, чей это голос? ... Он утверждает теперь, что я во всём могу убедиться сам: у человека есть душа... Я отрицаю это. Моя душа, моя живая душа и дух жизни покинули моё тело с его серым веществом мозга. Ещё никто не смог доказать, что это моё "я", это сознание вечно. Перевоплощение, о котором так беспокоился бонза, может, в конце концов, быть реальностью... А почему бы и нет? Разве цветок не появляется каждый год заново из того же корня? Так же и это "я", отделившись от мозга и потеряв равновесие, продлило все эти видения ... перевоплощением...
Я снова оказываюсь перед неумолимым фатальным циферблатом, и вот, глядя на медленное движение его стрелок, я слышу голос бонзы, который доходит до меня из глубины белого циферблата. Он говорит: "Боюсь, что в этом случае вам придётся только открывать и закрывать дверь снова и снова, и как бы долго или коротко это ни продолжалось, вам это время покажется вечностью..."
Часы исчезли, темноту сменил свет, и голос моего старого друга утонул во множестве голосов, доносившихся с палубы. Я проснулся на своей койке в холодном поту. От страха у меня закружилась голова.
VIII. Печальная повесть
Мы прибыли в Гамбург, и я, повидавшись со своими партнёрами по фирме, которые с трудом узнали меня, получил их согласие и добрые пожелания и отправился в Нюренберг.
Я был обманут в своих ожиданиях, обречён на жестокое разочарование! Тотчас по приезде в Нюренберг я поехал по адресу в дом сестры и нашёл его запертым, отдающимся внаймы; а час спустя, у бургомистра, мне пришлось убедиться и в действительности виденной мною страшной трагедии, со всеми её душераздирающими подробностями! Мой зять истерзан в куски стальными зубцами лесопильной машины; моя сестра, неизлечимо помешанная, — в богадельне и уже быстро приближается к своему концу; племянница — нежный цветок, "природы лучшее произведение", — обесчещенная, в притоне разврата; меньшие дети, отданные городскими властями в сиротский приют для нищих, умерли один за другим в пять месяцев жертвами страшной детской эпидемии; мой племянник, наконец, единственный переживший младших братьев и сестёр — где-то в море, никто не знал, наверное, где! Целое семейство — обитель мира и взаимной любви, — рассеяно по лицу земли, одни умерли, другие близки к смерти! А я — я теперь на свете один, свидетель этому целому миру смерти, бесчестия и полного разрушения!
Получив известие, подтвердившее таким образом истину моего видения, я впал в безграничное отчаяние, сломился, как подкошенный сноп, перед этим рядом поражающих меня разом, словно громом, событий; удар оказался слишком сильным, и я упал в глубокий обморок. Теря сознание, я ещё успел расслышать и понять произнесённые бургомистром слова: "Если бы вы только телеграфировали вовремя городским властям до вашего отъезда из Киото о том, где вы пребываете и о вашем возвращении и намерении взять на себя попечение о ваших племянниках и сестре, мы могли бы тогда распорядиться иначе и спасти их от постигшей участи. Никто не знал, что у детей есть дядя с хорошим состоянием. Они остались в полном значении слова нищими; их родные только что переехали в Нюренберг, где их никто не знал, и по смерти отца, не успев узнать ничего от помешавшейся матери, с ними было поступлено по закону, как поступили бы в любом другом городе; да при таких обстоятельствах вам и трудно было бы ожидать чего-то иного... Мне остаётся только глубоко сожалеть о случившемся, а вам — о том, что вы не телеграфировали вовремя".
Он был прав, и это именно и убивало меня. Мысль о том, что если бы я тогда послушал и поступил по дружескому совету бонзы Тамуры, то мог бы, по крайней мере, спасти от бесчестия мою несчастную племянницу; что телеграфируй я за несколько недель до отъезда, я спас бы тем, пожалуй, и меньших детей, — эта мысль, в соединении с фактом, что с этой минуты мне становилось невозможным сомневаться долее в действительности ясновидения и оккультизма, — возможность которых я так долго, так упорно отрицал, — всё это, вместе взятое, обрушившись на меня разом, сломило меня, как гнилой тростник. Я мог избегнуть порицания ближних, но я не мог скрыться нигде от упрёков собственной совести, от приговора моего наболевшего, навеки разбитого сердца — нигде, никогда, никогда!.. Я проклинал своё безумное упрямство, мой скептицизм, отрицание самых очевидных фактов, моё раннее атеистическое воспитание. Словом, я проклинал себя, а затем и весь окружающий меня мир!
В продолжение нескольких дней благодаря только одной силе воли я успел не поддаться быстро овладевающему мною недугу. Если я не свалился тотчас же под бременем поразившего меня несчастия, то это только благодаря тому, что мне следовало сперва исполнить священный мой долг в отношении живых и мёртвых. Но как только я взял из больницы для нищих сестру и отдал её на попечение одного из лучших медиков Нюренберга, вырвал племянницу из её вертепа и поселил с умирающей матерью ухаживать за нею; а сознавшуюся в преступлении еврейку засадил в тюрьму, — то в тот же день поддерживающая меня до того сила воли и твёрдость мгновенно оставили меня... Не прошло и недели по моём возвращении, как я уж лежал, сам не лучше помешанного, в бреду белой горячки, в смирительной рубашке, день и ночь изрыгая проклятия на дайдж-дзинов и судьбу. В продолжение многих недель я боролся со смертью; страшный недуг не поддавался усилиям лучших докторов. Наконец моё сильное сложение победило болезнь, и я был спасён.
Я узнал об этом с облившимся кровью сердцем. Приговорённый нести ярмо жизни впредь один, потеряв всякую надежду на помощь или даже облегчение моей участи на земле, я всё-таки продолжал упорно отрицать возможность другой, лучшей жизни за гробом, подобное неожиданное возвращение к жизни только прибавило одну лишнюю каплю горечи к моему безотрадному положению. Не нашёл я облегчения и в том, что не успел встать с одра болезни, как в первые же дни те же неприветливые, нежеланные видения, действительность и значение которых я не мог более отрицать, вернулись ко мне с удвоенной силой. Увы! Мне не являлось более даже возможным взирать на них теперь с прежним слепым упорством, как
...на чад горячечного мозга, |
Так, как и всегда, они являлись верной фотографией горестей и страдания моих ближних, часто лучших моих друзей... Таким образом я нашёл себя обречённым на пытку и беспомощное состояние прикованного к скале Прометея, осуждённым, как только я оставался один, видеть страдания двух дорогих для меня существ. В безмятежные для других продолжительные зимние ночи, словно увлекаемый железной, безжалостной рукою, я чувствовал себя, как только закрывал глаза, мгновенно переносимым к смертному одру несчастной сестры. Я был вынужден наблюдать в продолжение иногда целых часов за медленным процессом постепенного разрушения её слабого, истощённого организма, видеть и чувствовать страдания, которые её покинутый светлым разумом мозг не в состоянии был уже ни отсвечивать, ни передавать её телесным чувствам. Но что было ещё тяжелей и ужаснее, так это то, что я должен был смотреть на невинное детское личико моей племянницы, столь трогательно простой и безгрешной в её невольном осквернении; видеть, как полное сознание и воспоминание о своём бесчестии, о своей юной навеки погибшей жизни терзали каждую ночь её сны — для меня принимавшие объективный образ, как на пароходе. Так приходилось мне переживать одну ночь за другой те же страшные муки. Потому что теперь, когда я окончательно уверовал в действительность ясновидения и пришёл раз и навсегда к убеждению, что в нашем теле лежит скрытая, как в гусенице, куколка, способная содержать в себе в свою очередь бабочку — прелестный древнегреческий символ души, — я уже не оставался, как бывало прежде, равнодушным к таким видениям во время их самого явления. Что-то такое разом развилось, выросло во мне, оторвавшись от своей ледяной куколки; и теперь ни единое бессознательное ощущение страдания в истощённом теле моей умирающей сестры, ни единый вопль или содрогание ужаса в беспокойных, полных душевной муки снах племянницы при воспоминании о совершённом над нею, невинным ребёнком, преступлении, не проходило для меня даром, но каждое из них, напротив, пробуждало теперь ответный отголосок в моём обливающемся кровью сердце. Глубокий поток сочувственной любви и горя, залив это смертное сердце, вышел из берегов и громко клокотал теперь ответным эхом во впервые пробуждённой во мне душе. А эта душа словно покидала меня, отделялась каждую ночь и странствовала независимо от своего тела... То были невыразимо ужасные денные и ночные терзания! О, как сожалел я тогда о своём безумном, слепом высокомерии! Как горько раскаивался, как страшно я был наказан за свой оскорбительный отзыв о ямабузи, за отказ подвергнуться предлагаемому им очищению. Воистину я стал подвластен дайдж-дзину; и демон, как оказывалось, травил теперь свою жертву постоянно, направив на неё всех псов разверзнувшегося для неё ада.
Наконец бедная безумная женщина перешла за давно зияющую перед ней тёмную пропасть, и мученица успокоилась в лоне смерти. Тихо и безмолвно она канула в вечность, заснула непробудным сном в своей тёмной могиле, а через несколько месяцев за нею последовала и мученица-дочь. Чахотка скоро сделала своё дело с этим слабым, почти ещё детским организмом. Не прошло после моего приезда из Японии и года, как я остался один в целом мире. Даже мой дорогой далеко странствующий племянник, место пребывания которого мне удалось наконец узнать, — единственный оставшийся в живых родственник — изъявил письменно желание остаться при заменившем ему отца шкипере и следовать избранной им для него профессии. То был последний для меня удар.
Да, я остался на свете один, живой развалиной прежнего, и выглядя в тридцать лет шестидесятилетним стариком. Видения не прекращались, и я продолжал делаться невольным свидетелем греха и преступлений, пока, наконец, на самом краю помешательства, я внезапно решился на отчаянный шаг. "Я вернусь в Киото и пойду к ямабузи. Я брошусь к ногам святого, оскорбленного мною старца, и не подымусь, пока он не простит меня, не отзовёт и не укротит созданного моим высокомерным неверием, но всё же пробужденного им самим Франкенштейна, демона, с которым я, по моей слепоте и гордости, не пожелал тогда расстаться!.." — отчаянно воскликнул я.
Три месяца спустя я был снова дома, в Японии. Отыскав моего старого почтенного друга бонзу Тамуру Хидейхери, я умолял его повести меня тотчас же к ямабузи, невольному виновнику моих ежедневных терзаний. Его ответ удесятерил моё отчаяние: святой отшельник покинул свою родину; никто не мог наверное сказать, для каких стран. Он распрощался с братией в одно прекрасное утро с намерением отправиться на богомолье вглубь страны и, следуя обычаю, не мог вернуться, — если только смерть не сократит периода — ранее семи лет!
Я обратился за помощью и покровительством к другим ямабузи; но ни один не мог обещать наверное совладать с демоном, вызванным другим, отсутствующим адептом, или даже укротить этого беса ясновидения. "Тот, кто пробудил дайдж-дзина, должен снова и усыпить его, — говорили мне они все, — особенно если он принадлежит к разряду тех духов, которые вопрошаются о прошлом или будущем. Но мы сделаем всё, что можем".
С добрым сочувствием, которое я теперь научился ценить, святые люди пригласили меня присоединиться к группе их учеников и узнать вместе с ними, что я могу сделать. "Только воля, только вера в ваши собственные душевные силы могут помочь вам теперь, — сказали они. — Потребуется несколько лет для того, чтобы исправить хотя бы часть содеянного. Дайдж-дзина легко изгнать в самом начале, если же его оставить один на один с человеком, он овладевает всем его существом, и тогда уже невозможно избавиться от злого духа, не убив при этом его жертву".
Убедившись, что иного пути для меня не остаётся, я с благодарностью согласился остаться среди учеников и старался изо всех сил верить в то, во что верили эти святые люди, и всё же в душе мне это никогда не удавалось. Демон неверия и отрицания, казалось, пустил в моей душе ещё более крепкие корни, чем дайдж-дзин. Но я делал всё, что мог, решив не упускать последнего шанса на спасение. Поэтому я решил без всяких задержек освободиться от мирских и коммерческих обязанностей, чтобы несколько лет прожить независимой жизнью. Я уладил все расчеты со своими гамбургскими партнёрами и порвал связи с фирмой. Несмотря на значительные финансовые потери, вызванные столь скорой ликвидацией дел, я обнаружил, подведя итог, что я гораздо богаче, чем думал. Но богатство больше не привлекало меня, поскольку теперь мне не с кем было его делить и не для кого было работать. Жизнь стала обузой. Я с равнодушием относился к своему будущему и был настолько равнодушен ко всему, что когда передавал состояние племяннику, не оставил бы себе даже маленькой суммы, если бы мой японский партнер не вмешался и не заставил меня сделать это. Теперь я, как и последователи Лао-цзы, признавал, что только знания могут дать человеку твёрдую и надёжную опору, поскольку это единственное, что не может быть разрушено никаким ураганом. Богатство — слабое пристанище в дни печали, а самодовольство — самый опасный советчик. Поэтому я последовал совету своих друзей и отложил себе скромную сумму, обеспечивающую мне достаточный доход в течение всей моей жизни на тот случай, если я когда-нибудь оставлю своих новых друзей и учителей. Итак, уладив свои земные счеты и распорядившись своим имуществом в Киото, я присоединился к "владыкам дальнего видения", которые взяли меня в свои таинственные жилища. Я оставался с ними в течение нескольких лет, изучая в одиночестве их науки и ни с кем не встречаясь, кроме нескольких членов их религиозной общины.
Таким образом облегчённый, но далеко не совсем излеченный, я мог только научиться заклинать нежеланные видения, в лучших случаях — разом прекращать их. Но я не в состоянии до сего дня отвязаться от них бесследно, и они всё ещё часто мучат меня. Я научился многим тайнам природы из секретных фолиантов обширной библиотеки храма Тзео-Нене и получил власть над несколькими родами невидимых существ нижнего разряда духов. Но великая тайна владычества над ужасными дайдж-дзинами остаётся пока в руках одних посвящённых адептов, последователей Лао-цзы и отшельников ямабузи. Надо сделаться одним из них, дабы достичь такого могущества; а меня нашли неспособным к этому вследствие многих необоримых причин, хотя я делал всё, что мог, и трудился над этим долгие годы.
Только удостоверившись в своей неспособности занять высокое положение независимовидящего члена ордена, я неохотно оставил дальнейшие попытки овладеть дайдж-дзином. О святом человеке, который невинно стал первопричиной моего несчастья, никто ничего не слышал, бонза, время от времени посещавший меня в моём убежище, не мог или не хотел сообщить мне местонахождение ямабуши. Поэтому, когда мне пришлось оставить надежду на полное освобождение от моего трагического дара, я решил вернуться в Европу и поселиться в одиночестве. С этой целью я приобрёл с помощью моих бывших партнёров швейцарский домик, в котором родились моя несчастная сестра и я и где я вырос. Именно этот дом я выбрал для своего будущего уединения.
Прощаясь со мной на борту парохода, который должен был отвезти меня на родину, добрый старый бонза пытался утешить меня.
— Сын мой, — сказал он, — считайте, что всё произошедшее с вами — ваша карма, справедливое возмездие.
Никто из тех, кто раз находился — по своей ли или вследствие чужой воли, добровольно или иначе — во власти дайдж-дзина, не может надеяться сделаться настоящим ямабузи. В самом благоприятном случае он успевает только научиться отражать его нападения и с успехом бороться с ним. Подобно шраму, оставленному по излечении ядовитой раны, следы дайдж-дзина никогда не могут быть совершенно изглажены из нашего внутреннего "я", доколе его не изменит и совершенно не переделает новое воплощение.
Поэтому не поддавайтесь отчаянию. Бодритесь, ваше горе привело вас к истинному знанию, заставило признать многие истины, которые вы в противном случае наверняка бы отвергли с презрением. И этого бесценного знания, приобретённого благодаря вашим собственным усилиям и страданиям, никакой дайдж-дзин не может вас лишить. Прощайте же, и пусть Матерь Милосердия великая небесная владычица дарует вам покой и защиту.
Мы расстались, и с тех пор я веду жизнь отшельника: живу в полном одиночестве и постоянно занимаюсь исследованиями. Хотя по-прежнему меня время от времени тревожат видения, я не жалею о годах, проведенных под руководством ямабуши, и искренне благодарен за знания, которые получил от них. И я всегда вспоминаю с искренней любовью и уважением бонзу Тамуру Хидейхери. Я регулярно переписывался с ним до самой его смерти и стал невольным свидетелем этого события и всех его тяжёлых для меня подробностей в тот самый день и час, когда оно произошло за далекими морями, — честь, за которую я не могу благодарить свою судьбу."