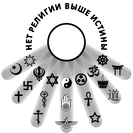| Издание: | Санкт-Петербург, 1893 |
I
Игрек (Y) весьма прозрачный, а потому не совсем добросовестный и совершенно ненужный псевдоним, данный мне г. Соловьёвым в его интересных статьях «Современная жрица Изиды», наконец, окончившихся в декабрьском № «Русского вестника».
Если эта латинская буква «Y», которой остроумный автор прикрыл только наполовину мою личность, в большинстве случаев называя меня прямо «Желиховской», кого-либо ввела в заблуждение, то я очень охотно разоблачаю сама себя, снимая прозвище, данное мне, вероятно, с единственной целью представить на суд публики не только мои разговоры, ведённые восемь лет тому назад, – какая счастливая память у г. Соловьёва! – но и мои письма...
Не имея необходимости скрывать или особенно стыдиться моих слов и писем – если они переданы в их истинном свете, – я ничего против этого не имею; тем более что, давая такими действиями и мне возможность пользоваться, без излишних колебаний, имеющимися у меня данными, он оказал мне услугу.
Я, к несчастию, не могу пересказать дословно своих разговоров с нашим славным романистом, как это делает он; но у меня, благодарение судьбе, есть возможность безошибочно передать их сущность, так как я и моя дочь постоянно вели дневники. Таким образом, не претендуя бороться с г. Соловьёвым в красноречивом умении показывать только свой товар лицом, рассказывать так живо и занимательно, перепутывая быль с небылицей, что у читателей, по большей части ищущих в чтении лишь развлечения, пропадает всякая охота к критическому анализу описываемых «фактов» (?), а только остаётся приятнейшее впечатление от занимательного рассказа, – я буду всё же надеяться, что некоторые из них обратят внимание и на мои скромные показания в пользу умершей сестры, за которую некому, кроме меня, заступиться.
Я, прежде всего, обращусь ко всем честным и справедливым людям с вопросом: что, безусловно, необходимо знать человеку, который берётся писать о другом человеке?.. Кажется, в ответе разноголосицы быть не может. Каждый, вероятно, согласится, что ему необходимо знать этого человека, его деятельность, а если же он автор, то и его сочинения?..
На это вот мои свидетельства, от которых – надеюсь, – не сможет отречься и сам «сочинитель» «Современной жрицы Изиды»:
1) г. Соловьёв знал сестру мою, Елену Петровну Блаватскую, всего шесть недель в Париже да столько же в Вюрцбурге и несколько дней в Эльберфельде, где он оба раза навещал её в качестве друга.
2) С её деятельностью практической он тогда познакомиться не мог, потому что Теософического Общества в то время ещё в Европе не было; также и переводов теософической литературы, – кроме сокращённой рукописи «Usis Unveiled»[1], – первого её произведения, которое она сама (печатно) аттестовала неудовлетворительным, сбивчиво и неясно написанным.
3) Со многими произведениями последних лет её жизни («The Secret Doctrine», «The Key to Theosophy», «The Voice of the Silence», «Gems from the East», «The Theosophical glossary»[2] – и множеством статей в журналах и газетах Европы, Америки, Индии) г. Соловьёв не познакомился и их не знает, по причине совершеннейшего незнания английского языка, ибо переводов и поныне почти нигде, кроме теософических журналов, нет. А ведь он теософской ереси (?!), по собственному заявлению, ныне чуждается... Да хотя бы и не чуждался, и в ней ещё не нашёл бы полностью сочинений Блаватской, иначе, как по-английски. А что этот язык ему незнаком, он сам заявлял не раз, как далее будет, впрочем, видно. Например, прося мою сестру об инструкциях на случай поездки к ней в Лондон, он прямо говорит: «Пришлите мне подробнейшие указания, – ведь я немой для Англии!». (Письмо 22 окт. 1884 г.), а в другом письме восклицает: «Какая подлость, что я не говорю по-английски!».
Итак, на каком же основании г. Соловьёв берётся писать о женщине, которую так мало знает, и об её деле, которого совсем не знает?.. Единственно на основании своих личных чувств и мнений?.. Но, если эти чувства и эти мнения менялись, подобно флюгерам, и в разные времена высказывались разно, – которым же заявлениям г. Соловьёва надо верить?
Он, без сомнения, может сказать, что тогда он ошибался, увлекался, был загипнотизирован, – как и утверждает по поводу своего видения Махатмы в Эльберфельде. Но если такие ошибки, увлечения и посторонние «внушения» – с ним вещь бывалая, – то где же основания читателям распознать, когда он пишет действительную правду, а когда морочит их своими ошибочными увлечениями или невменяемыми утверждениями гипнотика?.. Я не знаю!
Что касается меня, то если б я, не дай Бог, показала на себя, когда-нибудь, такие ужасы нечестности и коварства, какие на себя взводит г. Соловьёв (на стран. 51 февр. кн. «Русск. вестника»), – признаваясь, что он «преувеличил своё незнание английского языка», чтоб удобнее всё подслушивать и разузнавать; или, что во всё время знакомства с сестрой моей, он прикидывался её другом, – с тем лишь, чтоб её обмануть и набрать как можно больше о ней сведений, которые впоследствии ему послужили к её вящему обвинению, – да я бы с места признала себя заполонённой вражьей силой!..
Уж куда лучше быть под злым внушением или признать себя временно расстроенным, умственно, чем самого себя обвинять в таких невозможных подвохах.
Помилуйте! За что ж весь православный мир корит последователей Лойолы, как не за их постыдное правило оправдывать средства – целью?.. Трудно верить, чтоб русский человек, известный писатель, поборник православия и гонитель всяческих ересей, каким себя провозглашает г. Соловьёв, хладнокровно признавался в таких поступках, не будучи под влиянием какого-либо злостного «вселения» тёмной силы его обуявшей, или по крайности, болезненного бреда, делающего его неответственным в словах.
Я удовольствуюсь последовательными и по возможности краткими возражениями на его удручающие обвинения.
Начнём по порядку, с феврал. № «Рус. вестн.».
II
Меня, право, трогают горестные возгласы г. Соловьёва о том, как он «желал бы забыть всё то, что знает о несчастной Ел. Пётр. Блаватской»!.. Как бы ему приятно было не касаться своего заветного «пакета с документами» (?!) против неё, – если б это было возможно!.. Одинаково тронута и поражена я упрёками его в том, что я, – я одна виновата в нанесении ему этой нравственной пытки, своей беспримерной дерзостью: ознакомлением русских людей с хорошим мнением о её деятельности и сочинениях некоторых умных иностранных писателей[3]...
Могла ли я предвидеть такой печальный результат моих писаний?!.
Никак не могла и не ожидала, а вследствие именно этого ещё сильнее чувствую нравственную обязанность оправдать её хоть от некоторых его... ошибочных нападок, происходящих от непонимания им дела и целей сестры моей.
г. Соловьёв доказывает, на примере (стр. 43), что «феномены неразрывно связаны» с Теософическим Обществом и моей сестрой; что из-за них она «превращалась в фурию» и очень недоволен, что я, сестра её, умалчиваю об этом, совершенно забывая в своём благородном гневе, что даже, если б он был и прав, так ведь самый закон милосердно освобождает кровных родных от обвинительных показаний. Кроме того, он, очевидно, забывает, что, никогда не интересуясь, как он, собственно, «чудесами», я и прежде не придавала «феноменам демонстративным», – так сказать, материальным, никакого значения в теософическом деле. Другое дело, проявление сил психических, каковы ясновидение, духовидение, психометрия, чтение мыслей и т. п. высшие духовные дары: их я всегда в сестре признавала. Да не пеняет на меня г. Соловьёв за то, что, не будучи очень близко знакома, de facto, с Обществом, основанным моей сестрой, я и в этом вопросе более полагаюсь на мнение «иностранцев» близких к делу, чем на произвольные заключения свои или его: большинство самых преданных делу теософов, как г-жа Безант, профессора Бак, Фуллертон, Эйтон и множество ближайших сподвижников Е. П. Блаватской, в последние годы жизни ею приобретённые, – никогда, никаких чудес, видений или просто тех факирских фокусов, которые сама она называла «psychological tricks»[4], – не видали, не интересовались ими, и разговаривать о них не желали. Они в них не признавали никакой важности, ни малейшего значения. Точно такое же мнение о феноменах выражали и видевшие их, как, например, д-р Фр. Гартман, который их не отрицает, но положительно отрицает их необходимость или важность. Он даже, по этому поводу, написал сатирический роман «The talking Image of Urrur», где смеётся над людьми, в них полагающими всё значение теософии. А если б Блаватская не сочувствовала его мыслям, то, разумеется, не напечатала бы его в своём собственном лондонском журнале «Люцифер».
Приводить здесь пространные мнения выше названных и других, лучших работников и писателей между теософами, которые находят, как и все знающие близко дело, что несдержанные рассказы Олкотта, Синнетта, отчасти Джаджа и других приверженцев феноменальной стороны учения, много повредили их делу, – здесь невозможно; но ведь теософические журналы Индии, Америки и Европы открыты для интересующихся специально этим вопросом. Есть и нетеософические органы, как, например, лондонские «The Agnostic Journal», «The Review of Reviews» или «The North American Review», и многие американские периодические издания, которые очень дельно говорят о теософии, не придавая никакого значения феноменам – и не принадлежа членам Общества. На стран. 611-й «Русского обозрения», в моей статье «Е. П. Блаватская», желающие могут прочесть о ней и деле её мистера Стеда, издателя «The Review of Reviews»; там же можно найти и указания на статьи и людей, подтверждающих моё мнение. А именно: что видящий и придающий значение в теософическом учении одним феноменам, – астральным полётам да письмам Махатм, уподобляется червю, созерцающему лишь кончик сапога великолепно одетого человека.
Смело утверждаю, что, несмотря на не совсем учтивое и совершенно неосновательное мнение г. Соловьёва о неверности моих показаний и возможности, по его убеждению, подтасовки и неаккуратности переводов, всё, указываемое моими ссылками, будет достоверно найдено, и все переводы окажутся верными[5].
Уж такая странность г. С-ва: внушать читателям собственные, ни на чём не основанные предубеждения и, голословно обвиняя других в слабостях, ему самому присущих, – твёрдо рассчитывать, что ему все поверят, как безусловному авторитету. Он то и дело бросает подозрение на верность моих ссылок, которых верно сличать не трудился; а то, иногда и просто – конечно, по рассеянности – приписывает мне лично показания и убеждения совсем других людей, против мнений которых я и сама часто ратую... Эти ошибки будут мною везде указаны, и вот, для начала, пример.
г. Соловьёв пишет (стр. 42, февраль): «Если б сочинения Е. П. Блаватской были, как рассказывает г-жа Желиховская, произведениями её таинственного учителя, великого мудреца-полубога, диктовавшего ей…» и т. д. Отсылаю всякого грамотного человека к моей статье в ноябрьской книге «Русск. обозрения» за 1891 г., и там он сам прочтёт в главах III, IV и VI, как я не верила этой диктовке; как восставала против этого показания, серьёзно опасаясь за рассудок моей сестры, и ей самой прямо высказывала это недоверие.
Из чего же г. Соловьёв заключил, что я, в то время даже не верившая в существование самих Махатм, утверждаю то, против чего сама же восставала?.. Он, верно, невнимательно прочёл мою статью, иначе знал бы (стр. 269 «Русск. обозр.»), что я даже была повинна в непонимании возможности внушений, которую мне объясняла сестра в письме, начинающемся со слов:
«Ты вот не веришь, что я истинную правду пишу тебе о своих учителях. Ты считаешь их мифами…» и пр.
Вот, что заметил бы г. Соловьёв в «моих» рассказах... Повторяю: я, когда-то, имела даже глупость не верить внушениям, тогда, как он широко допускал их могущество. Я вижу это из его указаний на будто бы внушённое ему моей сестрой видение Махатмы Мории. Ведь он его не только лицезрел в продолжение целого часа, но даже имел с ним конфиденциальный разговор о своих интимных делах, – как печатно сообщил в журнале лондонского Психического Общества. Всё это под влиянием коварного внушения Блаватской! Мало этого: там же, в Эльберфельде, она ещё «внушила» ему такой разговор, который пришёлся, – как калоша к сапогу – к смыслу письма, вложенному этой самой «ужасной женщиной» «заранее» в тетрадь, которую он сам, г. Соловьёв, держал в руках... Это изумительное происшествие красноречиво описано им самим в письме, о существовании которого, вероятно, он забыл, ибо я с изумлением нахожу (на стр. 205, апр. «Р. в.»), что он нашёл более для себя удобным его заменить выдуманной им смехотворной сценой, которой никогда не бывало... Охота уступать такие преимущества, ему лично оказываемые Махатмами, бедному Олкотту!.. Всё от забывчивости!.. Но я, в своём месте, восстановлю это событие в его истинном свете, письмом самого «жреца истины» (тоже fin de siècle[6]?) г. Соловьёва.
Как бы то ни было, забывает или чересчур запоминает он факты, но они остаются фактами, и из них ясна полная непоследовательность его. Почему же Блаватская ему внушала и видения, и разговоры; а он не хочет допустить, чтоб кто-нибудь, сильнейший её, мог и ей внушать умные вещи?.. Мне, вот, никогда внушений не было, и я долго им не верила, имея на то полное право; господин же Соловьёв никакого права не имеет отрицать возможность влияния других на Е. П. Блаватскую, коль скоро он уверенно заявляет, что сам находился под влиянием её зловредных внушений.
Кажется, это ясно?
III
Повинуясь хронологическому порядку, я здесь обязана по чести заявить, что весь разговор г. Соловьёва с моей сестрой, по поводу мистера Джаджа (стр. 55), есть положительно плод его романической фантазии.
Все сколько-нибудь знающие м-ра Джаджа, его прошлую и настоящую деятельность и постоянные к нему отношения Е. П. Блаватской, несомненно, подтвердят моё показание. Этот очень уважаемый в Нью-Йорке законник, издатель журнала «The Path», бывший (со дня открытия Общества) представителем американских теософов, ныне единодушно избранный будущим президентом всего Теософического Общества, – вместо, по кончине сестры моей, желающего выйти в отставку полковника Олкотта, – никогда не был похож на мрачного злодея, которым г. Соловьёву вздумалось его выставить.
Мне, конечно, могут не поверить более доверяющие показаниям г. Соловьёва, тем не менее, я должна заявить, что, почти каждый год, встречая Джаджа у сестры моей в Лондоне, знакомая с их перепиской, я достоверно знаю, что она не могла ни думать о нём дурно, ни, ещё менее, так его порочить пред посторонним человеком, видимым ею во второй раз в жизни.
На удостоверение г. Соловьёва в том, что ему верно известно (?!), что я сама была членом Теософического Общества (стр. 60), – я отвечать документально не стану, видя в этом лишь безобидное для меня заблуждение; что же касается до следующих за сим непосредственно уличений меня в невежестве, я и совсем спорить не стану. Я даже поблагодарю его за доброе желание просветить меня к концу моей жизни, дав мне уразуметь разницу между супостатом Арием и – древними арианами или арийцами, о которой я, по мнению его, позабыв тексты учебников начальных школ, утратила всякое представление...
Но вот за что я уж никак не могу его благодарить: зачем он отрекается от собственных слов и собственных желаний?.. Зачем говорит (стр. 69), что удивился, когда ему «случайно попались» мои корреспонденции из Парижа в одесские газеты в 1884-м году, явно этим нарушая истину!.. Я тогда же, возвратившись в Одессу, поспешила ему послать сама свои фельетоны в «Одесск. вестн.» и «Новорос. телеграфе», потому что ведь мы с ним там сговаривались писать их, я – в провинциальных, он – в столичных газетах. Почему же он тогда сразу не удивился моим на него «поклепам»?.. Почему, будучи со мной после этого в продолжение двух лет в постоянной переписке и в величайшей дружбе, он никогда не заявлял мне своего неудовольствия по поводу того, что я в них упоминала его имя и ссылалась на его свидетельство?!.
Почему же, наконец, сочинитель эпопеи «fin de siècle» ни полусловом в ней не упомянул о том, что «о феноменах» не я одна писала, а корреспондировал и он, да ещё как красноречиво! Желающие убедиться в этом красноречии да обратятся к журналу «Ребус» (1 июля 1884 г.) и да прочтут рассказ г. Соловьёва под заглавием «Интересный феномен». Это один из позабытых им, о которых я, в числе многих других, могу напомнить ему отрывком (его касающимся) из собственного письма его, от 6/18 августа 1884 г. сестре моей, в Лондон:
«...Alea jacta est[7] – моё письмо в «Ребус» подняло уже некую бурю, и меня начинают засыпать вопросами: что? как? неужели?.. Ma ligne de conduite est tranchée[8] – и вы её должны знать. Насмешек не боюсь, к эпитетам глупца, сумасшедшего и т. д. равнодушен. Но за что вы от меня отказываетесь?.. Я не могу думать, что какой-либо “Хозяин” (Махатма) сказал вам, что вы ошиблись, ''и что я вам не нужен''!».
Вот как прежде г. Соловьёв боялся, чтоб Е. П. Блаватская не послушалась своих «учителей» – когда они стали говорить, что он Обществу «не нужен»! Это знаменательно... Но впоследствии он позабыл это обстоятельство, как позабыл и самое существование фельетона в «Ребусе», – обвиняя меня одну в письмах, которые любопытные писали ему по поводу феноменов?
У него вообще память очень своеобразна: то он запоминает от слова до слова разговоры, ведённые восемь лет тому назад, то забывает вещи, случавшиеся гораздо позже. Так, например, он страшно меня разудивил (на той же 69-й стр.) замечанием: почему я ни одним словом не упоминаю о нём в биографии сестры моей... Я очень резонно могла бы ему отвечать, что в такой маленькой заметке о такой большой женщине и таком значительном деле не может быть речи о людях, бесследно мелькавших на пути их, как промелькнул он со своей единственной, тоже им одураченной (как и мы были одурачены когда-то!) сторонницей, m-me de Morsier. Ведь это он силится доказать, что нанёс великий ущерб Теософическому Обществу; а на самом-то деле «l’incident Soloviof»[9], как в то время называли кутерьму, поднятую его же ухищрениями, в миниатюрном кружке парижских quasi теософов, прошёл «Обществом» почти незамеченный и ровно никакого следа в нём не оставил.
Казалось бы, как не знать этого г. Соловьёву и не удовольствоваться такой ясной причиной. Но он ею не довольствуется, и заставляет меня ставить точки на i. Говоря же его словами, – он «не позволяет мне забыть моего пакета с документами» и принуждает рассказать, какую неблаговидную роль он сыграл в кратковременных сношениях с моей сестрой, и доказать, что, не поминая его имени без нужды, я только щадила его.
Впрочем, могу и ещё напомнить ему факт, принадлежащий ко многим, бесследно им позабытый: он сам неоднократно просил меня и всю мою семью никогда не поминать его имени в соединении с именем Е. П. Блаватской или её Обществом. Я охотно исполнила его желание, тем более, что мне и самой претит касаться этих крайне тяжёлых воспоминаний. Уверяю г. Соловьёва, что никакого расчёта на его «человеческую слабость», а ещё менее «на его стыд» – ложный или не ложный, – у меня не было; а я просто оказывала ему снисхождение и была уверена, что он будет мне благодарен за моё молчание, – насколько человек, подобный ему, может испытывать благодарность – это свойство великих душ...
Вижу теперь, что ещё раз в нём ошиблась и, разумеется, буду отвечать прямыми опровержениями на его не всегда прямые показания.
Закончу обзор первых 4-х глав статьи г. Соловьёва восстановлением ещё нескольких его... ошибок.
На страницах 70-х он перечисляет всех, кто, по его заключениям, бывал в Париже у Е. П. Блаватской, определяя их точное (?!) число в 31-го человека... «Ну, скажем, тридцать пять (курс. автора), – милостиво прибавляет он, – на случай, если бы я забыл, кого-нибудь из совсем уж, вообще или в то время, невидных, без речей...». Ну, как же не заметить, что г. Соловьёв, коря меня за то, что я «пишу историю, как повести для лёгкого чтения», – сам непростительно увлекается своей фантазией присяжного романиста?.. Почему думает он, что его статистическим спискам лиц, знакомых его знакомым, все обязаны верить непреложно?.. Словно он служил у моей сестры консьержем и делал отметки всем входящим и исходящим!..
Я жила в доме её во всё время пребывания Е. П. Блаватской в Париже, ежедневно писала дневник, но знаю, что и в него вошли далеко не все её посетители и никогда не могла взять на себя их перечисление, – занятая своими делами и довольно часто отлучаясь из дому. Знаю лишь достоверно, что в доме был постоянный водоворот посетителей. Каким же образом посторонний человек, бывавши, правда, почти каждый день, но всё же не целыми днями сидевший у нас в гостиной, может подводить итоги и представлять именные списки (да ещё с аттестатами зрелости или незрелости – в придачу!), уверенно определяя даже число посещений, чужих гостей?!. Можно мнить себя непогрешимым папой, но, кажется, неудобно себя самого заявлять им.
Некоторые определения г. Соловьёва я положительно должна оспорить, не входя, разумеется, с ним в препирательства насчёт множества им пропущенных лиц, а тем менее насчёт того, кто сколько раз, – один или десять, – бывал у сестры моей.
Своё личное мнение, до некоторой степени, никому не воспрещается заявлять, но нельзя так бесцеремонно превозносить качества и преимущества своих друзей, в ущерб другим и в явную клевету на своих недругов. Напрасно г. Соловьёв, провозглашая таланты г-жи де-Морсье, называет её «настоящим автором теософических брошюр, издававшихся ''под видом'' произведений дюшессы де Помар, леди Кейтнесс», – аттестуя эту последнюю какой-то полоумной. Lady Caithness издала и издаёт не одни теософические брошюры (она во многом с учением теософическим не согласна); она написала несколько увесистых, более или менее философских сочинений и постоянно издаёт журнал «L’Aurore». Как очень богатая женщина, она хорошо платит г-же де Морсье за то, что та переводит её рукописи с английского языка, на котором легче писать леди Кейтнесс, на французский, – которым она не так свободно владеет; быть может, m-me de Morsier, исполняет и ещё какие-нибудь редакционные дела – я не знаю; но следует ли из этого, что она пишет, а герцогиня пользуется её славой?..
Я довольно близко знаю леди Кейтнесс; мы иногда переписываемся о вещах, нас интересующих; я уважаю её за верность дружбы её с моей сестрой, несмотря на многие несогласия во взглядах, и мне было бы приятно, если б мои показания могли осилить далеко неверное свидетельство г. Соловьёва. В виду этой цели, я написала ей, прося её засвидетельствовать мою правду, и вот что получила в ответ:
«Дорогая m-me Jelihovsky, госпожа де Морсье была у меня, когда я получила письмо ваше касательно мнения г. Соловьёва о моих статьях. Я очень возгордилась тем, что он счёл их достаточно хорошими, чтобы принадлежать её перу… Но только это не так: я пишу их сама, а она так добра, что их переводит на французский язык.
Я, конечно, ей прочла ваше письмо, и она просила у меня позволения сама написать и сказать г. Соловьёву, что он ошибся; ибо она слишком правдива, чтоб ему позволить остаться под впечатлением, что мои статьи – ею написаны. Что за странный он должен быть человек, чтобы так думать!.. Но, как я уж ранее заявила, – я принимаю это за комплимент, зная, как он преклоняется перед m-me de Morsier. Только боюсь, что, узнав правду, он больше никогда не захочет читать моих писаний... А это было бы очень печально, так как они весьма религиозны и нравственны и рассчитаны на то, чтоб делать дурных людей – добрыми, а хороших – ещё лучшими!..».
Подписано:
Несколько дней спустя, я получила, неожиданное мной никак, письмо от самой главной сподвижницы г. Соловьёва, г-жи де Морсье.
Вот оно.
«Madame, герцогиня де Помар мне сообщила, что вы ей пишете, что г. Соловьёв напечатал в русском журнале, будто я пишу статьи и брошюры, которые она подписывает.
Я непременно желаю удостоверить вас, что это показание неточно; что никогда, ни в какое время я ничего другого не делала, как только переводила творения герцогини де Помар и старалась их даже переводить построчно. Я бы хотела, чтоб по этому поводу не было ни малейшего сомнения, и вследствие этого и пишу вам эти строки.
Примите и пр.
К этому письму присоединено письмо г. Соловьёва к г-же де Морсье (от 2/14 янв. 1893 г.), которым он удостоверяет, что
«она сама, г-жа де Морсье, ему никогда не рассказывала о характере её теософических и литературных работ с герцогиней и что эти сведения он почерпнул... из другого источника»...
Точно также неверно говорит г. Соловьёв и о графине д'Адемар, из которой он делает пустоголовую, эмалированную куклу. Он объявляет, что «никогда от неё не слыхал хотя бы чего-нибудь чуть-чуть теософического»... Очень быть может, что он и ничего не слыхал, но если бы он имел обыкновение вникать добросовестнее в данные, которые провозглашает за истинные, то не мог бы не узнать, что графиня несколько лет издавала журнал, которого экземпляры лежат и теперь передо мною. Вот его заглавие: «Revue Thésophique». Redacteur en chef: H.P.Blavatsky. Directrice: Comtesse Gaston d’Adhémar[10].
Из этих двух фальшивых показаний можно судить о других.
На странице 72-й г. Соловьёв приводит письмо к нему Шарля Рише, очевидно, писанное после переполоха, наделанного между горсточкой парижских теософистов легковерной M-me de Morsier? Вследствие веры её в – опять-таки неверные, – свидетельства того же Вс. С. Соловьёва. В этом письме Рише выражает недоверие к Блаватской и её делу, – то есть собственно феноменам. А вот, как сам Всеволод Сергеевич расписывает о нём, в одном из писем своих к ней.
«Сегодня провёл утро у Рише и опять-таки (sic) много говорил о вас, по случаю Майерса и Психического Общества. Я положительно могу сказать, что убедил Рише в действительности вашей личной силы и феноменов, исходящих от вас (курс. авт.). Он поставил мне категорически три вопроса. На первые два (?) я ответил утвердительно; относительно третьего (?) сказал, что буду в состоянии ответить утвердительно, без всяких смущений, через два или три месяца (?!). Но я не сомневаюсь, что отвечу утвердительно, и тогда, увидите, будет такой триумф, от которого похерятся (?!) все психисты!».
Это письмо писано 8 Октября 1885 года. Значит, в то время, когда г. Соловьёв знал, как и теперь, все обманы и злостные дела «воровки душ», которую уже давно стремился обличить и обезоружить, дабы явиться самоотверженным спасителем «невинных душ» парижан, изловленных ею, как сенсационно рассказывает читателям в продолжение целого года. Так зачем же губил он «невинную душу» профессора Рише, утверждая его в погибельных заблуждениях, против которых, если верить ему, ещё с осени 1884-го года облачился в латы и шлем Дон Кихота?!.
«Странное дело! Непонятная вещь!», – остаётся нам воскликнуть. Не свидетельствует ли сей факт красноречиво, что я права, вопрошая в недоумении: когда же и которым именно показаниям г. Соловьёва мы можем верить, ничем не рискуя?!
Я выше позволила себе назвать г-жу де Морсье – «легковерной». Но да не подумают читатели, что я это сказала от себя. Нет! я только повторяю слова её друга, г. Соловьёва. Дело в том, что он не всегда был её другом: вначале мне не раз приходилось заступаться за неё в разговорах с ним; он подружился с нею уж после нашего отъезда, и вот, как писал нам об этом и о ней:
«…Был я целых три раза у m-me Морсье; она, кажется, добрая, но легковерна до комизма и в то же время считает себя скептической особой…» (7 июля 1884 г.).
Увы! Вот этой-то слабостью и воспользовались находчивые люди, чтоб ею орудовать по своему усмотрению... Но об этом после.
Вот ещё отрывок из письма г. Соловьёва Е. П. Блаватской, из Парижа в Лондон, месяцем позже (6 Августа, 1884 г.).
«…M-me Морсье уехала к морю, очень довольная тем, что Master (учитель) узнал об её страхе холеры и через Djual Khool’a (?) просил её не бояться. Перед отъездом своим она, у старика Эветта[11], пришла в экстатическое состояние, ощупывала меня (?!) и решила, что я «душка» и из одной с нею сферы, тогда как в бодрственном состоянии продолжает считать меня ледяным и загадочным человеком... Она славная и начинает мне нравиться; но, если бы я был её мужем – я собственноручно бы убил её!».
Что сей сон значит? – не нашего ума дело.
IV
С первой же главы мартовского «Русск. вестника» г. Соловьёв с маху начинает фантазировать: я положительно никогда не знала ни теософских знаков, ни паролей; но, несмотря на это, из уважения к сестре, её делу и гостеприимству, никак бы не позволила себе подымать их условные знаки на смех, да ещё впервые видя человека. Впоследствии, правда, когда г. Соловьёв сумел меня сердечно расположить к себе, рассказами о своих несчастиях, о людской к нему несправедливости, – я, принимая в нём участие, не раз старалась его воздерживать от увлечений; я не усомнилась даже, – вполне доверяя его честности, – делить с ним некоторые опасения, на которые, быть может, не имела права.
Я никогда не скрывала своего недоверия к чудодейной стороне деятельности своей сестры; я высказывала ей его открыто и в то время, не зная совсем того, что изучила впоследствии, во многом была к ней и к окружающим её несправедлива... Разумеется, я воздержалась бы делиться своими опасениями с г. Соловьёвым, если б могла предполагать, что он воспользуется моим дружеским доверием не единственно в свою пользу, а как орудием против меня и моих близких, изобличением его, пытаясь – сначала устно, а ныне и печатно – поселить между ими и мною вражду...
На фальсификации подробностей в рассказах о двух феноменах (гл. V и VI) я останавливаться не буду, потому что о них уже было говорено выше и своевременно печатано мною и г. Соловьёвым. На одной лишь фразе обязана остановиться. Говоря о письме, которое сестра прочла психометрически, сквозь закрытый конверт, он теперь говорит:
«Затем письмо передали в открытую дверь г-же X» и пр. Это неправда! И неправда преднамеренная, потому что г. Соловьёв прекрасно знает, что он сам первый не стал бы в таком случае ни описывать феномена в «Ребусе» (11 июля 1884 года), ни подписывать протокола, написанного госпожой Морсье на месте и хранящегося у меня в целости, с его и другими подписями. Если б письмо хоть на миг было снято со стола гостиной, куда его принёс не Бабула, а почтальон, г. Соловьёв и другие имели бы право высказывать (спустя восемь лет) свои сомнения; но в том-то и сила, что не оно было передано в дверь, а в неё к нам вошла г-жа X. и при всех, тут же вскрыла конверт.
Как поднялась рука у г. Соловьёва теперь писать о возможности подлога, когда он сам же торжественно заявил в «Ребусе»:
«Обстоятельства, при которых произошёл феномен и все мельчайшие подробности, проверенные мною, не оставляют никакого сомнения в его чистоте (курс. авт.) и реальности. Об обмане и фокусе не может быть речи».
Вот какова правда автора «Жрицы Изиды»!
Впрочем, теперь психометрия – вещь такая доказанная и общеизвестная, что вряд ли стоит за неё ломать копья. Что касается до второго феномена, с портретом Махатмы и сестры моей, то, разумеется, и о нём в скептическом тоне рассказано только теперь. Нынешняя редакция ой-ой, как не сходна с заявлениями 1884 года!.. Вот что нахожу в своём дневнике, – передаю суть.
Когда я рассказала Всев. Сергеевичу об удивительном исчезновении моего фельетона из Елениной scrape-book[12] – (третий «феномен», о котором рассказывать здесь не к чему), он мне решительно объявил, что «не понимает, чему я так изумляюсь?». «Если-де, было возможно то, что мы вчера видели – перемещение, исчезновение и вновь появление портретов, – то всё может быть, и я, – говорил он, – больше ничему не изумлюсь…». «Как, – говорил, – не стыдно вам так не доверять сестре и очевидности? Вот увидите, что вы будете посрамлены в своём недоверии»...
Увы! Выходит наоборот, что я теперь посрамлена в неуместном доверии человеку, которому не следовало верить.
Как мною было рассказано в своевременной корреспонденции, я ушла ранее возвращения Олкотта, а потому конца феномена с портретом, именно перемещения его в шляпу, – не видала. Я не знала, что г. Соловьёв зарывал его в саду; сознаюсь, что и, прочтя рассказ его, сильно в этом сомневаюсь, имея на то полное право: он тут же доказывает, что я его «уговаривала писать о феноменах», – а я знаю достоверно, что никогда его не уговаривала. Да как же бы я могла его уговаривать, когда сама сильно сомневалась в «чудесности» этих проявлений и сама его воздерживала от чересчур сильного увлечения ими?.. Он постоянно мне предрекал, что мой скептицизм «будет посрамлён», что я «несправедлива к сестре»; а теперь ему вздумалось, что удобней рассказывать, что я его уговаривала, а он-де, такой умница, – воздержался, не писал... Да вот горе: хоть он о своей статье в «Ребусе» не упоминает, но, тем не менее, она – на лицо! Я, по крайней мере, тогда от него не слышала о погребении портрета; а вот, что своими ушами слышала, что засвидетельствовала в фельетоне «Одесск. вестника», который послала сразу в Париж (как сказано выше) и чего прежде г. Соловьёв никогда не оспаривал, – это его восторженные (а совсем не иронические) возгласы, что он видит летающие огненные шары! И светящиеся, и яйцеобразные, пламенные явления – круглые, овальные, приплюснутые, – всякие! Именно, всяческую дребедень, которая, быть может, и действительно «плод его творческой фантазии», – но уж никак не моей.
Далее будут приведены убедительные, – собственноручные доказательства г. Соловьёва в забвении им своих слов и показаний. Надеюсь, что эти красноречивые доказательства поддержат мою правоту и в этом заявлении, на которое у меня, к несчастью, прямых улик нет.
Портрет сестры моей он мне точно переслал, в начале прошлого года, перед тем, как задумал печатать свой сенсационный вымысел «Современная жрица Изиды». Он мне его передал одновременно с предложением возвратить ему все его письма ко мне и к сестре моей – (буде таковые у меня окажутся). Он, правда, предлагал поменяться с ним на мои к нему письма и, в случае моего согласия, обещал не поминать моего имени в выше названной статье...
Я отвечала, что оскорбления моей умершей сестре для меня больней личных мне оскорблений, а потому пусть пишет всё, что ему угодно, но его писем я ему не отдам. И как хорошо я сделала, что не отдала их!
Ох! Боже мой, как много лишних слов вложил мне в уста г. Соловьёв во время нашей прогулки по Парижу, которую он описывает в VII главе своего произведения, и какое множество подробностей забыл он опять помянуть, говоря о себе самом. Уверяю вас, читатели, что никогда не могла я «жаловаться», будто сестра заставляет меня писать о феноменах, потому что никогда этого не было. Я писала о ней и её деле, пишу и, вероятно, буду писать не собственно о феноменах, а вообще о теософии, только по собственному желанию, без всяких на меня сторонних влияний. Писала, пишу и буду писать не в том смысле, каким г. Соловьёв запугивает православных людей, ибо православию никогда не изменяла и не было в моей жизни такого времени, когда бы я боялась осенить себя крестом или войти в церковь, – что иногда бывало с некоторыми моими знакомыми, о чём я ещё, быть может, и поговорю далее. Я писала и буду писать о теософии, не как о «новой религии», в чём меня совершенно неосновательно упрекает г. Соловьёв, ибо я, в таком случае писала бы глупости, о несуществующем предмете, а как о весьма глубокой философии, из которой проистекли все древние верования. Впрочем, всех мисти- и фальсификаций г. Соловьёва не перебрать!
В моих дневниках нахожу, что никто так часто и настойчиво не добивался «секретных аудиенций» у моей сестры, как он, г. Соловьёв, а он о них и совсем не поминает!.. Мы, близкие Е. П. Блаватской, прекрасно знали не только сущность этих разговоров, но и все их подробности и от неё, и от него самого отчасти, потому что со мной, в минуты увлечений разговорами по душе, он иногда бывал откровенен и правдив. Он осаждал её просьбами поделиться с ним своими знаниями собственно демонстративных феноменов; ему страх как было желательно возвратиться в Россию прообразом его «князя мага» в романе «Волхвы». Ещё накануне нашей прогулки, о которой он рассказал столько лишнего, а о существенном умолчал, Елена говорила нам:
«Просто не знаю, что делать с Соловьёвым! Не даёт покоя, умоляя научить его феноменам, – да разве возможно этому сразу взять да и выучить?!. “Как это вы эту музыку из воздуха вызываете?”… Как же я ему это расскажу?.. Вот, говорю, как видите: махну рукой по воздуху, – аккорды оттуда и отзываются... Что ж мне больше ему рассказывать?.. Пусть пройдёт чрез всё то, что я прошла, живя в Индии, – может и достигнет! А так, только у меня время отымает и сам его напрасно тратит».
Вот вследствие таких-то речей сестры моей я и хотела воздержать г. Соловьёва от напрасных стремлений, искренно сознавшись ему, что и сама далеко не во всё верю и считаю, что сестра только вредит себе и делу, позволяя слишком восторженным поклонникам её знаний провозглашать её «чародейские» силы.
Другой раз помню, Е[лена] П[етровна] даже рассердилась и сказала нам, когда Соловьёв уехал: «Удивительный человек! Упрекает меня, что я Олкотта научила – а его не хочу научить!.. Я ничему Олкотта учить и не думала, а сам он только магнетизёр прирождённый и духовидец…».
Что полковник действительно был очень сильный магнетизёр и многих вылечил на наших глазах, это верно. Меня, в том числе, от застарелого ревматизма; да и самого г. Соловьёва, по его уверениям того времени; но теперь он, вероятно, скажет, что свидетельствовал ложно, по внушению сестры моей?..
В дневнике у меня (под числом 5 (17) июня, вторник) вот, что сказано об этой прогулке по Парижу:
«В два часа, по условию, была на “рандеву” с Соловьёвым, Plase de l’Etoile. Долго гуляли. В парке Монсо сидели часа два и он рассказал мне всю свою биографию... Бедный он человек! Плохо, вероятно, всё это кончится... Что за увлекающийся фантазёр! Верить ему, так только рот разевать на все бывшие с ним чудеса. Уверяет, что помнит прекрасно, как в детстве летал выше деревьев. Помилуй, Господи!.. Заходила в нашу церковь; очень красивая. Странно, что Соловьёв ни за что не захотел туда войти... Почему?.. Не объяснил».
Прочитав эту заметку, ясно вспоминаю своё удивление и напрасные расспросы по этому поводу. «Что ж это вы, Всеволод Сергеич, чёрной магией, что ли занимаетесь? Или совсем в буддисты желаете записаться?», – спрашивала я, в изумлении, но ответа не добилась. О буддизме я имела полное право его спросить, так как он много раз доказывал мне, что религия Будды даёт не менее для счастья человека, чем христианство. Он отвечал отрицательно, и я, понятно, из деликатности не настаивала на этом вопросе.
Тем не менее, инцидент с русской церковью оставил во мне тяжёлое впечатление. Я в то время очень любила Всеволода Сергеича и всей душой желала ему счастия... Я и ныне несчастий ему никаких не желаю, – не будучи, благодарение Богу, мстительной; только, – говоря его же словами, в виду тяжких его обвинений умершей, которая сама себя оправдать не может: «Я не могу пренебрегать обстоятельствами, – не могу и не должна!». Ибо (опять-таки повторяя его слова): «В цепи доказательств его обманов признания его, не только словесные, но и письменные являются важнейшим звеном»…
Таковы слова нашего обличителя; пусть же не взыщет он, что я обращаю поднятое им на нас оружие против него самого.
Мартовская статья его заканчивается громоносной филиппикой против «воровки душ», Е. П. Блаватской, которая, «подымая руку» (?), «звеня своими невидимыми серебряными колокольчиками и проделывая свои феномены», приглашала парижских теософов, «очертя голову кинуться в бездну»...
Батюшки мои! Какие страсти... Хорошо, что, судя по фактам, опасность была несколько преувеличена. Вот сколько лет прошло, – теософическое движение удесятерилось числом и значением. И в Париже оно (хотя, сравнительно, весьма мало) усилилось, но ни один ещё теософ не погиб. Мало того: все остались о ней, об «ужасной воровке душ», самого хорошего мнения, что доказывается усердными переводами её сочинений, за которые теперь серьёзно принялись. Никто в бездну не попал, а все читают и хвалят её книги, а об изобличении её «одураченным юнцом Ходжсоном», как называет его журнал «The Path», так же, как и о заключениях Лондонского Общества психистов, решительно никто не заботится. И не вспоминает, кроме разве нескольких оригиналов, по примеру г. Соловьёва, наивно полагавших всю суть теософизма в «серебряном звоне колокольчиков» и в астральных перелётах тибетских мудрецов на свидание с ним, «в торговый город Эльберфельд».
Без сомнения, желание «хорошенько познакомиться с теософическими учениями и литературой и уяснить себе, что в них заключается» (вот в том, что заключается в них и дело всё, г. Соловьёв!) – желание, высказываемое автором «Жрицы Изиды» на странице 100-й, весьма похвально. Но его и ныне даже не совсем легко удовлетворить человеку, не знающему очень хорошо английского языка; а уж восемь лет тому назад и совсем было немыслимо. Так что, говоря серьёзно, а не для одного обморочения читателей, такого предлога никто уважающий себя не взял бы, для объяснения необходимости продолжать сношения с Блаватской, раз убедившись в её недобросовестных поступках.
Но г. Соловьёв избрал его, рассудив, что эта «благородная цель» вполне оправдает его... разнообразные средства. Разочаровавшись в престидижитаторских[13] способностях моей сестры, но, всё же упорно полагая весь смысл её учения в «феноменах», он quand même[14], продолжал более года налагать на себя епитимью притворства и обманов... Я полагаю, что это должна быть действительная епитимья – для честного человека?.. Вечно быть под гнётом разыгрываемой комедии; вечно лицемерить, под личиной дружбы и преданности особи, которую он презирал и всё время, – «всегда считал на всё способной», по его позднейшему сознанию, – помилуй Бог! да такую пытку вряд ли бы вынес так долго сам Иуда. И для чего?.. «Чтоб хорошенько познакомиться с теософическим учением»... Но право же, это можно было устроить ценой меньших жертв.
Чем нести такое бремя и неудобные, для порядочного человека, тяготы, не проще ль было бы посвятить свободное время на изучение английского языка, выписать книги теософического содержания и из них узнать, нет ли и впрямь, чего умного и хорошего в этой «теософии», которой Ел[ена]. Пётр[овна]. Блаватская привлекла к себе сердца и умы десятков тысяч людей?.. Вот и вышло бы хорошее, честное дело! Что было ему недоступно тогда (чит. стр. 51), стало бы доступней теперь и помогло бы ему судить о деле правильней и справедливей.
А чтобы доказать, что хотя г. Соловьёв теперь говорит о своём лишь плохом знании английского языка, но прежде был искреннее и прямо заявлял, что совсем его не знает, я ниже приведу собственное сознание его, в письмах, где он отчаянно восклицает: «Какая подлость, что я не говорю по-английски!».
Это, положим, слишком резко... Незнание – не подлость. Подлости бывают другие... Незнание – лишь неудобство, которое можно преодолеть; но, разумеется, пока оно не устранено, добросовестный человек обязан воздерживаться от суждений о неизвестных ему предметах.
В VIII главе г. Соловьёв посвящает две страницы обличению мошенничества Бабулы, слуги сестры моей. Но это всё он, очевидно, придумал позже, на основании не всегда верных показаний Лондонского Психического Общества, агенту которого вздумалось, из этого простого индуса, сделать аколита[15] француза-фокусника и к тому же лингвиста. Но на деле он ни тем, ни другим никогда не бывал. Если бы он был такой ловкий фокусник или учёный, он, вероятно, предпочёл бы другую деятельность, более доходную, чем чищение сапог и мытье посуды, которыми он и по сей час занимается в Адьяре. Скандала, который предполагает Соловьёв (103 стр.), с Бабулой не было никакого; а его ранее отпустили уехать в Индию, потому что у него там заболела жена, – о чём все, и сам г. Соловьёв, своевременно знали.
Я любила расспрашивать этого неглупого парня об их житьё-бытье в Адьяре; помню, что часто смеялась его рассказам, но по совести, достоверно свидетельствую, что о «кисейных» Махатмах никогда не было речи. Если бы это слово было им выговорено, то при моём тогдашнем неверии в существование этих мудрецов-индусов, я б ни за что не оставила этого показания без внимания, а расспросила бы о его значении и Бабулу, и его хозяйку, с которой я никогда не стеснялась входить в препирательства.
На недостойных рассказах г. Соловьёва на стран. 105 – 107-й о том, как сестра моя обращалась с полковником Олкоттом, этим умным, знающим, энергическим, прекраснейшим стариком, своим помощником в трудах и лучшим другом, – я не хочу останавливаться. Мне вчуже стыдно за рассказчика!
V
Перехожу к апрельской книге «Русского вестника»; начинаю читать главу IX измышлений г. Соловьёва и – становлюсь в тупик!
Да, – положительно становлюсь в тупик, пред непостижимым... не знаю уж, как тут и выразиться без резкости?.. Ну, пред вопиющей недобросовестностью, что ли, этого удивительного человека!
Прошу всякого прочесть страницу 194, где он удостоверяет что «Usis Unveiled», –первое большое сочинение сестры моей, – «это огромный мешок, в который, без разбору и системы, свалены самые разнородные вещи и всякий вздор, ни на что непригодный». Прошу не оставить без внимания и примечание, в котором г. Соловьёв беззастенчиво укоряет меня, и в самых резких выражениях, за то, что я поверила его «брошенной в разговоре» фразе, что будто бы эта книга – «феномен» и осмелилась повторить её... И вот, когда вы прочтёте эти бурные протесты против свободы моего обращения с его словами (а что же мне-то сказать о свободе его обращения с моими словами?! спрошу я, в скобках) – я попрошу вас прочитать моё оправдание, в нижеследующих письмах самого г. Соловьёва.
«Дорогая Вера Петровна,
Письмо ваше очень и очень меня порадовало, – впрочем, я и рассчитывал, что вы не забудете своих обещаний... Так как спешная работа кончена и мы теперь отдыхаем, то является простор для мрачных мыслей. Надо выдумать новую работу... Одолевают стуки, и звуки, и всякое несуразное. Например: неведомый голос говорит А.: “Вот, сей час станет стучать в стекло окна”, – и тот час же начинает стучать... Я почти постоянно ощущаю вокруг себя дуновения и чьи-то присутствия и до такой степени, что становится противно...». (Вот именно, г. Соловьёв!.. Но... это ли не феномены?!). «Прочёл письма Кут Хуми (Махатмы) и содержание оных весьма одобрил. Читаю вторую часть «[Разоблачённой] Изиды» – и совершенно убеждаюсь, что это – феномен''!..» и т. д.
Могла ли я подозревать, что и самые восторженные устные отзывы, и такие письменные заявления – ирония, шутка и ложь?!.
А вот ещё письмо к сестре моей, из Парижа в Лондон.
«Дорогая Елена Петровна.
В пятницу, едва держась на ногах, я провёл весь день с Олкоттом. В субботу он, с Р. Гебхардом, вернувшись от Адемар, у меня обедали, а после обеда, я слёг и лежу до сих пор. Запустил простуду, и вышло совсем скверно.
…Вторая часть “[Разоблачённой] Изиды”[16]. Мне, кажется, что и первую часть надо вам прислать в Париж, так как эту книгу нужно непременно издать здесь для французов. M-me Морсье очень пригодится для ошибок (?) и она готова работать. Мне кажется, что если дюшессу (герцогиню де Помар) оставляют почётной президентшей, то, если она хоть мало-мальски порядочная женщина и себя уважает, должна же сделать что-нибудь для «общества». Пусть издаст вашу “[Разоблачённую] Изиду”. Пошлите к ней Оукли – он скажет, что парижское “общество” крайне нуждается в издании этой книги и надеется, что почётная дюшесса исполнит эту свою прямую обязанность...
Если она такой Плюшкин, что не может, при своём богатстве, сделать такого пустяка, – то на что же она годна?!.
Если она формально не возьмётся издать “[Разоблачённую] Изиду”, то я чувствую, что не удержусь и произведу некую “флюшку” (скандал – на интимном языке Е.П.Б.). Я терпеть не могу таких гадостей (?!), как эта дюшесса!..
Может быть, следует, чтоб m-me де Морсье ей написала от имени “общества” о необходимости издать “[Разоблачённую] Изиду”?.. Обдумайте это и дайте знать.
Пока – до свидания. Ваш всем сердцем.
Кажется, этими двумя письмами я снимаю с себя нарекания г. Соловьёва вполне и своих слов мне здесь больше не нужно?
Об удивительных чудесах, происходивших с творцом перипетий рода «Горбатовых», во время поездки его в Эльберфельд осенью 1884 года, я знала своевременно, как из его писем, так и из сообщения той особы, которую он называет буквой «А». Так как больше мне о ней говорить не придётся, то уж я, кстати, замечу, что и на неё, по своему обыкновению, много поклепал г. Соловьёв. Она, на самом деле, гораздо умней, честней и добрее некоторых, им прославляемых личных друзей его.
Теперь о «чудесах в решете», как правильно выразился г. Буренин в газете «Новое время», в своей статье («Г. Всев. Соловьёв и жрица Изиды»).
Зная об этих пророческих видениях (апр. «Р. в.», стр. 199), я, признаюсь, всегда удивлялась, какое право имеет г. Соловьёв сомневаться в доподлинности явления ему Махатмы Мории?.. Но, если и допустить, что он целый час разговаривал с астральным духом ''по внушению моей сестры, то почему же не указал он нам того, чьё внушение доставило ему приятное зрелище (тоже в астральном свете?) картин природы, с которыми он, на деле, лишь познакомился на следующий день?.. Ведь это тоже должен был быть маг и чародей, не уступавший в силе Блаватской.
Что сказать о повествовании г. Соловьёва о том, как посетил его тот самый «полубог, таинственный учитель», которого внушений моей сестре он, почему-то, никак не хочет допустить?.. В нынешней редакции он представляет именно ту сложную амальгаму правд и лжесвидетельств, которую англичане называют «the true lie, – worst specimen of lies»[17] – то есть такой искусственный винегрет хитросплетений, с которым борьба очень затруднительна... Могу только сказать достоверно, что в письме ко мне г. Соловьёва, с которым справляюсь, не было выражено ни малейших сомнений, а всё было рассказано, как факт несомненный. Он колебался, несколько позже, вопросом: не было ли видение это внушено ему и отчасти, не произошло ли вследствие долгого созерцания портрета Мории? – это правда; но, тем не менее, он утверждал, что для него это была действительность самая реальная. Да и в самом деле! Как известно, внушения зрительные бывают лишь верным повторением виденного; а ведь ему Махатма предстал стоя, потом сел на стул и разговаривал с ним целый час о различных интимных делах... Какое же тут «повторение» виденного?..
Вот отрывки из письма г. Соловьёва от 30-го / 18-го октября 1884. г., из Парижа.
«…Посылаю при сём копию с рассказа о моих приключениях в Эльберфельде, посланного мной в отчёт Лондонского Психического Общества. Из сего рассказа вы узнаете всё, что вас интересует, и убедитесь в моей храбрости пред общественным мнением. Но, впрочем, эта храбрость имеет свои границы, и я решительно не желаю, чтоб мои приключения попали в русские газеты…». (Какая же тут храбрость? – можно бы воскликнуть; но, судя по событиям последующим, вернее заметить: какая дальновидная предусмотрительность!). «Об этом я писал Прибыткову, – продолжает г. Соловьёв. – Всему придёт свой черёд и всё, так или иначе, объяснится – ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным...» и пр.
Во истину!.. И какое великое счастье для честных людей, что это Евангельское слово иногда на земле оправдывается...
Вот, в подтверждение моих слов о неполной тождественности настоящих показаний г. Соловьёва с первоначальным рассказом, напечатанным в журнале лондонского Психического Общества (у меня есть с него копия), одно-два указания. Вот, например, на стр. 202-й «Русск. вест.» за апрель сказано:
«Я зажёг свечу, и мне представилось, что на часах моих два часа…».
А в прежнем описании события просто заявлено:
«Я увидал на своих часах, что было два часа…».
Далее, на той же странице «Русского вестника»:
«Голова его (Махатмы) покачнулась (?), он улыбнулся и сказал, – опять-таки на беззвучном мысленном языке сновидений...» и пр.
А в рассказе, современном происшествии, повествуется утвердительно, – что едва г. Соловьёв подумал, что сходит с ума, тотчас увидел, на том же месте, «великолепного человека в белых одеждах».
«Он покачал головой и, улыбаясь, сказал мне, – повествует духовидец, – “Будьте уверены, что я не галлюцинация”» и пр. – без всяких указаний на языке, на котором говорил Махатма.
Согласитесь, что эти рассказы производят совсем разные впечатления?
В том, что писано героем Эльберфельдских чудес с места, или тотчас по возвращении в Париж, совсем нет таких выражений, как: «мне почудилось, мне представилось, показалось» – и, уж, без всякого сомнения, нет ни намёка на что-либо похожее на ту злобную, сплошь вымышленную сатиру, в которой он теперь выдумал изобразить Блаватскую, Олкотта и всех окружавших их в Эльберфельде.
Для него, веровавшего тогда (или ложно уверявшего, что верит – я не знаю) во все феномены, это было бы и невозможно. Теперь он измыслил водевильную сцену, в которой моя сестра посылает наверх за Олкоттом; вопрошает его: «с которой стороны» чувствовал он приближение «учителя»; приказывает ему опорожнить карман, где и находится сфабрикованная записка Мории (он забыл, что тогда называл его не Морией, а Кут Хуми); но – в то время, – о «кармане Олкотта» и речи не было! Он сам, г. Соловьёв, хвастался, что непосредственно получил записку «учителя».
В доказательство привожу отрывки, касающиеся дела, из письма его ко мне, от 21/9 ноября 1884 г., из Парижа:
«…Теперь к другому. Напрасны ваши упрёки! – моя душа открыта перед вами (на что понадобилось г. Соловьёву меня морочить своей преданностью? Меня, никогда его не обманывавшую!) и я доверяюсь вам совсем. Начну с меньшего. Вам желательно знать, чтò интимного говорил мне Мория. Да ктò говорил? Мория ли? Я сильно в этом сомневаюсь... В рукописи моей, надеюсь, вы в этом не сомневаетесь, – я всё описал, как было». (Нет! я не сомневалась тогда в правдивости г. Соловьёва, но только очень изумилась, потому что он впервые выразил мне сомнение в доподлинности явления Махатмы). «Я рассказал это профессору Майерсу и должен был согласиться послать моё сообщение Лондонскому Обществу для Психических Исследований», – продолжает он.
Далее пространные объяснения о возможности гипнотических внушений, а затем новое сообщение, иллюстрирующее ещё раз чудесные силы и свойства моей сестры. Это и есть инцидент с г. Соловьёвым, который он ныне заменил – «запиской, найденной в кармане Олкотта», между пуговкой и зубочисткой. Вот он в первой его редакции, в том же письме г. Соловьёва:
«…Но вот – факт. Там же (в Эльберфельде) я получил, к великой зависти теософов, собственноручную записку Кут Хуми и даже на русском языке. Что она очутилась в тетради, которую я держал в руке, меня нисколько не удивило, – я это заранее предчувствовал и почти знал. Но поразило меня то, что в этой записочке говорилось ясно и определённо именно о том, о чём мы говорил за минуту!!! В ней был ответ на мои слова, – а в течение этой минуты я стоял один, никто не подходил ко мне и, если предположить, что кто-нибудь заранее положил в тетрадь записочку, то этот кто-нибудь, значит, овладел моей мыслью и заставил меня сказать те слова, прямой ответ на которые находился в записочке... Этот изумительный феномен я отчётливо наблюдал несколько раз над собою и над другими. Какова сила?! А рядом с этой силой, какое иногда бессилие!..».
Сила, несомненно, великая, но... где же тут «пуговичка, зубочистка» и пр. предметы, «вытащенные из кармана Олкотта», г. Соловьёв?.. Вы, – на сей раз, – правы: при такой силе духовных даров «бессилие» Е. П. Блаватской точно было замечательно. Как было ей, горемычной, не знать, что не перед каждым соотечественником, даже назвавшимся другом, возможно, расточать перлы своих психических сил? Как было не предвидеть, что этот друг, когда смерть закроет ей уста, – найдёт возможным, вместо этого «факта», возбудившего к нему «зависть всех теософов» – рассказать балаганную сцену, расписанную им на стр. 205-й его бесцеремонного вымысла?!.
Вот ещё смешная bévue[18] Соловьёва. Ох! Беспамятство – большой порок! На стр. 215 приведены последние слова письма, в котором Е[лена] П[етровна] просит его узнать адрес хромофотографистки m-me Tcheng, прежде жившей rue Byron. На следующей странице он высокопарно заявляет, что, «конечно, не исполнил» никаких поручений «madame», и «не стал искать какую-то chromophotographiste, которая не должна была ни видеть, ни знать меня, – всё это было бы, по меньшей мере, нелепо»!
Было ли то нелепо, и каким образом сестра просила его остаться неизвестным г-же Ченг, а он просто и прямо ей пишет, что и он, и m-me Морсье её принимали и с нею говорили о ней, Е. П. Блаватской, – я не знаю! Но вот его письмо об этом свидании во всей неприкосновенности относящихся к нему строк:
«Дорогая Елена Петровна, хромофотографистка с китайской фамилией живёт именно там, находится в настоящее время в Париже и занимается не только изготовлением портретов, но и изготовлением каких-то статей в здешние газеты “Gaulois” и “Gil Blas”.
M-me de Morsier уверяет, что я её сегодня загипнотизировал, а гипнотизация эта заключается в том, что она вас ужасно полюбила (!?!) и почувствовала, держа мои руки, – ужасно щекотно, – и нюхая (?) ваше последнее письмо с припиской Кут Хуми, – что вы совсем искренни et bonne, donne comme du pain[19]! ».
Вот как на самом-то деле было с хромофотографисткой!.. Добрый г. Соловьёв постарался исполнить поручение сестры моей лучше, чем она сама хотела, а теперь ему вздумалось, что он «конечно» его не исполнил!!
Вот конец письма от 1-го октября и ещё несколько интересных писем, вполне подтверждающих мнение г. Буренина («Новое время» № 6038), что жестокий обличитель сестры моей сам верил «в существование и великие силы» кисейных мудрецов-полубогов[20]:
«Я должен непременно знать, когда, с каким поездом приедет Мохини. Надеюсь, он посетит меня, тогда бы и m-me de Morsier (это её желание) явилась с Бессаком. Бессак теперь оканчивает очень серьёзную, обширную и сочувственную статью о Теософии; но он впадает в некоторые ошибки, которые указать ему может Мохини.
Вчера послал вам два письма. С этим вместе посылаю ответ Китли…
Жду вас, хотя ещё не верится такому благополучию.
Ваш от всего сердца.
Ко мне:
«Дорогая Вера Петровна, сейчас получил письмо ваше и спешу перемолвиться с вами... Я на этих днях вернулся из Эльберфельда, где провёл с неделю у постели бедной Елены Петровны. Должен сказать вам, что с точки зрения европейской медицины, она очень и очень плоха; но более чем когда-либо, вместе с окружающими её, верит в силу своих Махатм и знает, что болезнь её не к смерти. Во всяком случае, ей придётся долго пролежать в Эльберфельде. Доктора констатировали: ожирение сердца, сахарную болезнь и сильнейший ревматизм, от которого опухла левая рука, да и до сердца недалеко. Она сильно страдает, но изумительно бодра духом!.. Чудес – не оберёшься! И, в конце концов, пожалуй, и выздоровеет, чего я из всех сил желаю, ибо люблю её (sic)!».
Прошу заметить, что это письмо было писано под свежим впечатлением возвращения из Эльберфельда, где Е.П.Б[лаватская] была признана Вс. С.Соловьёвым преступницей без апелляции. Вот и ещё несколько строк, писанных в то время, когда он уже знал, – если верить его признаниям в «Соврём. жрице Изиды», – что Махатмы – злостная выдумка Блаватской и на деле их совсем нет.
«Завтра Елена Петровна выезжает в Ливерпуль, в Египет, а оттуда в Индию. Как она ещё жива, как может ехать, – ехать в такую даль и в такое время года – это для меня – чудо! Или, вернее, одно из доказательств (sic) существования Махатм!..».
Следующий отрывок из письма от 21/9 ноября 1884 г., которое дальше будет приведено сполна, недурно характеризует г. Соловьёва, показывая, насколько он достоин веры:
«…А когда кончится её[21] существование, которое – я должен так думать, поддерживается теперь только искусственно, какой-то магической силой, – я буду всегда оплакивать эту несчастнейшую и замечательнейшую женщину!..».
И вот – он её оплакивает!..
Он оплакивает её, прилагая к ней все бранные и унизительные эпитеты, которые может изобрести человеческая злоба и лживость, рассчитывающая на легковерие людское и на полную безнаказанность!
Как не вспомнить здесь слов Е. П. Блаватской в одном из писем её ко мне:
«Если бы Соловьёв был подозревающим, но честным врагом, – он бы не лгал!..».
И далее:
«Говорю тебе, Вера, одно, – пророчу и предрекаю: будешь ты горько сожалеть о доверии и дружбе с Соловьёвым, – когда поздно будет!.. Я ведь тоже любила его, как брата!..».
О! сколько раз потом я вспоминала и как горько вспоминаю теперь это пророчество!.. Теперь, увидав, на чтò подымается рука этого «несчастного» человека (назову и я его несчастным, как он, то и дело, называет сестру мою!). Читая с изумлением, что рядом с бранью и клеветой, он осмеливается приводить такие сцены, как описание её страданий и её просьб, обращённых к нему, как «к искреннему другу» – как к русскому, – не оставлять её одной, на одре смерти:
«”Пожалейте меня”, – приводит слова её г. Соловьёв на стран. 207-208 и продолжает, – голос её прервался, из глаз брызнули слёзы.
“Ведь я одна! Все они – чужие, чужие!.. Только вы – свой, русский!.. Друг мой бесценный, не покидайте вы меня, старуху, в такое время”…».
Боже мой! Неужели г. Соловьёв не понимает, что он бьёт сам себя?!.. Что после описания таких сцен, его циничные признания в тут же принятом им намерении обманывать, устраивать облавы на эту страждущую (по убеждению его, умиравшую) соотечественницу, взывавшую к нему как к русскому, – как к другу, звучат ещё ужасней, ещё оскорбительней для него?
Впрочем, на что мне говорить от себя?.. Писем его, писем и ещё писем!.. Они должны действовать убедительнее всяких восклицаний. В них сам г. Соловьёв докажет русским читателям, что из всех людей, имеющих право возмущаться чужими обманами, едва ли он его не утратил!
VI
Вот какими милыми посланиями убаюкивал он нас, не только сестру мою, но и меня, которая уж никак не была повинна в обманах, ни перед ним, ни перед кем!.. Прошу не забывать, что все они относятся к тому времени, о котором он, с таким бурным негодованием праведника, рассказывает в главе ХII-й своего нынешнего измышления.
«Дорогие именинницы!!! Честь имею поздравить вас (это меня и моих дочерей) со днём вашего ангела и прежде всего пожелать вам... (следуют дружеские, шуточные пожелания и благодарности за посланные ему фотографии). Получил я приказ Е[лены] П[етровны] с приписками *** и Ц** (посетителей, приехавших к сестре из Одессы, после отъезда г. Соловьёва) снова явиться в Эльберфельд. Но не могу я этого, ибо ужасно занят; увлёкшись теософией, или, вернее, представительницей оной, я Бог знает что наваракал в своём новом романе и теперь сижу за исправлениями, а редактор из Петербурга подхлёстывает: скорее! скорее!
Елена Петровна сердится и действует магически. Я чувствую это действие, но креплюсь, как истый ”чела” (ученик Махатм), долженствующий быть “превыше желаний”...
Простите за ужасный почерк – следствие невероятного пера – и за нелепое (не правильнее ли было бы сказать: лицемерное?) письмо – следствие, надеюсь временного, расстройства умственных способностей...
Как бы я хотел провести 17-е сентября с вами. У меня прежде были в этот день три сестры именинницы... а теперь – вы!
Позволю себе здесь объяснить, что во всех письмах своих г. Соловьёв постоянно объяснялся в «братской дружбе» к дочерям моим, которые, уверял он, – «сестры ему по духу». Об уверениях его в дружбе и сыновней преданности мне – нечего и говорить. Мы же, совсем не зная ни семьи его, ни жены, очень сожалели, что семейные распри заставляют бедного человека отрекаться от родных сестёр! Вот, в параллель, письмо его от того же времени, к «ужасной воровке душ», которую он уж совсем порешил уничтожить:
«Дорогая Елена Петровна, не обладая магическими способностями, я могу не знать, что у вас делается, если не получаю никаких известий и если мои письма остаются без ответа. Но зачем же вы не знаете и не видите, что здесь делается?!. Как вам известно – герцогиня Помар отказалась от президентства[22]. Она глубоко оскорблена полковником. Защитник американских негров (Олкотт) действительно оказался неискусным в объяснениях с европейской grande dame[23]. Она шипит, как кошка, которой наступили на хвост, и, как шипящая кошка,– опасна! Она показывает письмо к ней той одесской дамы, г-жи Г., что ли, одним словом, той, у которой горбатый сын. Эта дама, в свою очередь, рассвирепела от приёма, сделанного ей в Эльберфельде, главным образом, от того, что от неё прятали Мохини (?!). Конечно, всё обрушивается на вас, и каверзы обе эти дамы (?!) подстраивают ужасные. Здешнее Общество в состоянии разложения и крайнего недоверия.
Г-жа Г. обещает в России открывать глаза[24]... О различных рассказах, слухах и сплетнях – говорить противно и не стоит[25]. Драмар и Бессак могли бы быть полезны, только у них теперь опускаются руки. M-me Морсье рвёт и мечет и только держится своей любовью к Кут Хуми и отчасти мною. Что могу делать, – делаю! Я равнодушен к теософическому обществу, понимание которого от меня ускользает, благодаря вашему ко мне недоверию (?!); но мне дорога ваша репутация. Если я не могу для неё очень многого здесь, то мог бы в России. Поэтому мне и необходимо было свидание с Ц**. Я мог бы, с его помощью, подрезать крылья г-же Г., мог бы укрепить его, ибо после пребывания в Эльберфельде нужно каждого укреплять, так как в Эльберфельде много ошибок, – происходящих не от вас, но которых вы, почему-то, не видите. Мне нет дела до других, но мне надо вас вынести непричастной. Я не могу расписывать. Если захотите – для вас будет ясно (?). Отзовитесь же.
Ей это, без сомнения, было ясно! К несчастью, по собственному желанию моему большинство русской корреспонденции сестры моей после смерти её было сожжено. Уцелело лишь то, что она сама передала мне и что выслали мне позже из Адьяра. Если бы не эта непростительная опрометчивость, вероятно, у меня была бы возможность теперь объяснить читателям и то, о чём осторожный г. Соловьёв сам находил неудобным «расписывать»...
Вот письма к страницам 215 – 217-й.
«Дорогая Елена Петровна, сейчас получил письмо ваше. Верьте не верьте, но ни оно, ни даже приписка Кут Хуми меня нисколько не удивили. Я произведу сенсацию через m-me Морсье.
Мохини, если он хорошо и твёрдо (?) направлен, – очень кстати!.. Какая подлость, что я не говорю по-английски!
Видеться мне с вами положительно нужно и мне нечего расписывать, как бы я был счастлив, если бы вы ко мне приехали!.. Не я один, а мы. И вам, надеюсь, было бы удобно. Из Эльберфельда в Лондон через Париж крюк небольшой...
Быть может, и договорились бы до чего-нибудь по-русски[26]... И я бы проводил вас в Лондон...
Не знаю, чем и умолять вас не торопиться выходить в отставку. Поговоримте прежде, и если это неизбежно'', то при вас я и напишу всё, что надо и куда надо.
Что же можно в письмах?! Жду дальнейшего.
P.S. Не волнуйтесь, во имя всего святого! ».
Это ли не речи искренней дружбы?.. Просто можно ошибиться и подумать, что г. Соловьёв не тогда надувал Блаватскую, а ''теперь надувает христиан православных.
Но вот, что воистину непонятно: на что ему понадобилось уговаривать сестру мою не выходить в отставку? О чём это он так пламенно желал прежде с ней поговорить и, быть может, «до чего-нибудь договориться»?.. Не объяснит ли он этих подробностей интересующимся его «разоблачениями»?.. А то ведь не странно ли такое противоречие? То сам он заявляет печатно, что оставил бы её в покое, если б она его послушалась, – предалась бы одним литературным занятиям, – бросила заниматься зловредной теософией, а то вдруг, когда она хочет оставить представительство «мрачного», «губительного для душ человеческих общества», он же сам – «не знает, как и умолять её не выходить в отставку»... Что ж это значит? Почему такие противоречия?!
Но в том-то и дело, чтоб уметь смолчать вовремя. Этим Талейрановским правилом и отличаются умные люди, хорошо умеющие говорить, а ещё лучше – молчать!
В это чреватое обманами время г. Соловьёв старался никогда себя не компрометировать, договаривая письменно о том, что трактовалось лишь устно на «секретных аудиенциях» между ним и моей сестрой. Он заменял прямые речи намёками, ей одной понятными.
Все эти фразы: «Не могу расписывать... Если захотите – для вас будет ясно!.. Ваше здоровье дорого мне столько же для вас, как и для себя… Приезжайте – быть может и договоримся!.. Что же можно в письмах?..». Разве все эти напоминания и намёки писались бы даром'', если б не имели глубокого значения?.. Не будь у него заветных, гораздо более существенных целей, чем бесцельное разоблачение Блаватской; не ошибись он в своих расчётах, – вероятно, он не был бы так неприлично щедр на излияние своей мести и жёлчи на её могилу. А бесцельными я не без основанья назвала все унизительные комедии, подтасовки и клеветы его: он сам прекрасно знал и знает, что ему не расшатать её дела, не подорвать её известности в чужих краях, – а в России теософии нечего делать...
Если бы г. Соловьёв точно ратовал во имя одной правды и спасения невинных душ от злостных тенёт «ужасной обманщицы», то, покончив эту миссию, – вполне уяснив себе преступность Блаватской, он не стал бы ждать семь лет, а тотчас бы её обличил. А, прежде всего, бросил бы пагубное общество и, отрясши прах с ног своих, не стал бы продолжать свою роль друга-предателя ещё более года, после возвращения Блаватской из Индии, вплоть до начала 1886 года. Видно, ждал г. Соловьёв от сестры моей чего-нибудь, что заставило его юлить перед ней ещё столько времени, выйти из Общества лишь в феврале 1886 г. и не писать о ней, пока была она жива.
Ведь он может незнающих морочить побасёнками о том, что пока я молчала о теософии, – молчал и он. Это неправда! Я постоянно, все эти годы, от времени до времени, писала и печатала, когда Бог на душу клал, и он прекрасно об этом знал, но не возвышал голоса, потому что боялся сестры. Ему надо было дождаться её смерти, чтобы заговорить свободно...
К счастью, он всё же несколько ошибся в расчёте на то, что время уничтожило все улики: их ещё достаточно, и я твёрдо верю, что они пошатнут его самонадеянные расчёты на силу его мнений и авторитета.
Видно, искусно, con amore[27], как истый артист, вёл г. Соловьёв свою искариотскую переписку с Е. П. Блаватской, если она, заваленная делом, литературными трудами и устройством ветви Теософическаго Общества в Лондоне, – настоящего, серьёзного общества, а не пародии на него, какая была в Париже, – вот что, между прочим, мне писала, переехав туда из Эльберфелъда, в сентябре 1884 г.
«…Что мне делать с жалкими письмами влюблённых в меня поклонников?.. Наполовину приходится не отвечать совсем, но, ведь, множество таких, которых я и сама люблю и жалею, – как бедный наш Всеволод Сергеич Соловьёв! Давно ли я в Лондоне, а уж два жалких письма получила. Просит только любить и не забывать... Дескать, никого из чужих так не любил, как меня, старую. Спасибо ему!..».
Вот как «обошёл» бедную обманщицу её будущий грозный судья... Да что – её?.. Она хоть нужна ему была, – на неё он хоть свои расчёты имел, ради которых, может, по его и стоило такую унизительно фальшивую канитель тянуть. Но меня-то, меня и всю мою семью чего ради он морочил?.. Положительно из любви к искусству – каждую неделю сладкие письма писал, то мне, то дочерям моим, объясняясь в дружбе[28]. И среди этих уверений в безотчётных и безграничных чувствах любви и преданности лично к нам никогда не забывал втиснуть и такие успокоительные строчки о Елене:
«Я ни с кем не веду двойной игры, и доказательством тому могут служить такие фразы в получаемых мною письмах: “Вы пишете, что вам нет дела до Общества; а я в него положила жизнь, здоровье, душу, честь, будущность… Если уж вы, искренний друг мой, прямо подозреваете меня в том, что, когда не удаётся по-настоящему, то я подделываю феномен, – то, что скажут враги?”».
«Но она знает, что я действительно люблю её и что я друг ей!», – немедленно, после цитат из писем к нему сестры моей, продолжает меня морочить г. Соловьёв; именно это самое письмо (от 9 ноября), заканчивая пресловутой фразой, что, когда-де умрёт эта замечательная женщина, «я её вечно буду оплакивать». «Будем же понимать, – просит он меня, – то есть прощать не на словах, но на деле…». И так далее.
Могла ли я не успокоиться такими христианскими правилами Всев. Серг. Соловьёва?.. В продолжение более года своей жизни я, – седая женщина, искушённая опытом, казалось бы, до некоторого знания людского коварства, – верила ему, безусловно, и любила, чуть ли не как родного сына!.. Знаю, что такое признание не возвысит моих умственных способностей в глазах людей, но считаю себя обязанной нести позор этого всенародного признания, ради объяснения последующих событий. Когда до меня доходили невыгодные слухи, я спешила винить всех, кроме настоящего виновного, и успокаивалась его добродетельными словами.
«Дорогая Вера Петровна! – пишет он мне тогда же. – Я не могу бояться за наши с вами отношения, какие бы сплетни им ни грозили, – но какую всё это нагоняет меланхолию!.. Мне всё очень ясно, и вот уж можно сказать, что Е[лена] П[етровна] всю душу свою положила в Общество. В “Общество” и дело. Боятся вашего влияния на меня во вред “Обществу” (!), а я теперь для “Общества” крайне нужен... Душа моя открыта пред вами» и пр. пр.
Во истину «турусы на колёсах», которым я имела необъяснимую впоследствии для меня глупость верить. Вот уж где было истинное «внушение» и дурманное ослепление. Я потом часто вспоминала уверения г. Соловьёва, что будто бы от него исходил некий «fluide», действовавший магнетически... Уж не его ли он пустил в ход со мной, сестрой моей и моими детьми, чтоб возбуждать наше недоверие и гнев, несправедливо, против близких людей, – ему на пользу?
VII
Понятно, что на приводимый полностью отчёт Лондонского Психического Общества я отвечать не могу и не буду. Да если бы это и было мыслимо по месту и объёму, которые должен иметь мой ответ в защиту сестры, я бы его не предприняла, по следующим причинам:
I) Опровержения на этот отчёт (пристрастно составленный даже по мнению нетеософических газет) писаны тогда же, на месте, и в Англии, и в Америке, во множестве, людьми, гораздо более меня компетентными, наследовавшими дело, производившими следствие на следствие «обойдённого миссионерами» и «одураченного туземцами» Ходжсона. Так называют его люди, ближе г. Соловьёва знающие подробности дела. Народ (туземцы-фанатики), говорят они, никогда не одобряли разоблачения существования и деятельности своих Гуру (Махатм), которых считают святыми, и очень были рады случаю опровергнуть их действительность во мнении европейцев. Но нам до этого нет дела!.. Я назову главнейшие из статей, писанных в опровержение Отчёта Психического Общества, а затем пусть желающие знать их суть – к ним и обратятся. 1) «Report of the result of an Investigation into the Charges against M-me Blavatsky, brought by the Missionaries of the Scottish Free Church, at Madras. Reexamined by a committee appointed for that purpose. By the General Council of the Theos. Society. Madras. 1885». 2) «Reply to an examination, by I.D.B. Gribble, M.C.S., into the Blavatsky correspondence. By H.R.Morgan. Major General, Madras Army. 3) Official Report of the Ninth Session of the General Convention. Madras». 4) «The “Occult World phenomena” and the Society for Psychical Research, by Sinnett. With a Protest by M-me Blavatsky. London. 1886». 5) (Приложение к газете «The Times») «The Great Mares Nest of the Psychical Research Society. By Mrs. Annie Besant». 6) Подробное исследование д-ра Гартмана (которое я прочла с превеликим интересом, но назвать не могу, ибо нет его у меня в настоящее время). Если не ошибаюсь, его заглавие: «Report of Observations of a Private Visitor». И т. д. – без конца, или же кончая протестом, присланным из Лондона, года три тому назад, в наши газеты; протест, подписанный значительным количеством подписей, который, однако, в русской прессе места не нашёл, как «сообщение, для русской публики неинтересное»… Копия его у меня хранится.
Продолжаю исчисление причин, по которым на показания «Отчёта» Психического Общества отвечать подробно не буду.
II) Потому что мой ответ лично автору «Современной жрицы Изиды» – благодаря его фантазии по обвинениям Е. П. Блаватской – и без того грозит затянуться более, чем я бы желала; а его аргументы для меня куда важнее аргументов Ходжсона, Майерса и К°, – до Куломбов и иезуитов включительно.
III) Ещё потому, что для меня, как и для всех тех знающих учение и научные труды Е. П. Блаватской, истина или фальшь собственно феноменов в теософическом движении – ничто! Оно возбуждено и основано прочно не на «колокольчиках» и даже не на «воздушных посланиях» его «покровителей таинственных учителей» – а на реальных книгах сестры моей и её многих учёных сподвижников и, отчасти, на реальных же благотворительных учреждениях имени H.P.Blavatsky, как, например, Приют женщин-работниц, в East End’е, – нищенском квартале Лондона. К несчастью, г. Соловьёв ни об этих книгах, ни об этих благотворительных учреждениях Теософического Общества понятия не имеет (я так заключаю потому, что он, вероятно, помянул бы и их, описывая жизнь и значение основательницы этого Общества, если б что-либо знал о них).
IV) Ещё потому, что предполагаю, что, как бы ни расписывали своих обвинений психисты и г. Соловьёв, вряд ли люди, мало-мальски рассуждающие, поверят, чтоб Е.П.Б[лаватская] была такая идиотка, чтоб в своё отсутствие из Адьяра заказывать в своих комнатах ловушки, двойные шкафы и всякие приспособления к фокусам. Уж если бы у неё не хватило ума, чтоб рассудить, что такие махинации необходимо производить на своих глазах, со всевозможной скрытностью, то она хотя бы не позволила, без себя, впускать в свои комнаты сторонних посетителей. А ведь факты таковы: шотландские миссионеры, подкупив Куломбов, посылали своих агентов осматривать их работы в Адьяре... Сам иезуит Паттерсон признался (об этом заявлено было во многих статьях, которые следовало бы прочесть г. Соловьёву, рядом с вытверженным им наизусть «Отчётом» Ходжсона) в том, что в разное время он платил Куломбам за услуги, в особенности за письма, якобы Блаватской писанные. Меня удивляют ярые протесты г. Соловьёва против подделок в письмах сестры моей! Писем этих он не видал... Неужели он не знает, что такие вещи на свете бывали?.. Фанатизм каких преступлений не порождал, в особенности, когда мстительные люди брались действовать, – как иезуит Паттерсон, – «в вящую славу Божию»!
И, наконец, моя пятая и последняя причина невнимания к проискам Куломбов, Паттерсона, Ходжсона и К°, – это знакомство с протестами против них, протестами, возбуждавшимися, в большинстве случаев, именно первым знакомством с их показаниями. Все беспристрастные люди всегда сразу восставали против этих клевет, – как восстал против них и сам г. Соловьёв, тогда ещё смотревший на вещи здраво и справедливо.
Вот, что он сам своевременно писал моей сестре.
«Дорогая Елена Петровна!.. Эти две недели прошли здесь не даром. Приезжали Синнетт и Крукс. Я познакомился с ними, но дело не в этом, а в том, что всё устроено и приготовлено, чтобы, по крайней мере, здесь, – т. е. в здешней печати, – осрамить эту гадину Куломб и всех ослов, – хотя бы они и принадлежали к какому-либо учёному Обществу, – которые могли хоть на минуту придать значение её гнусной брошюре. Эта брошюра здесь возбудила всеобщее негодование, и мне даже ни перед кем не пришлось защищать вас, – так как после этой гадкой интриги симпатии к вам только возросли (!?!)… Ах! Если б нам с вами увидеться!
Искренно вам преданный и любящий
Вот как думал и говорил г. Соловьёв прежде; а так как моя главная цель в этой статье совсем не в том, чтоб оправдать сестру мою от нападок других её врагов, – против которых она давно оправдана, – а в том, чтоб доказать российской публике, что верить обвинениям и рассказам самого-то Соловьёва никак нельзя, то я более об этом и говорить не буду. Я твёрдо к тому же знаю, что улики в фокусах, – которые она и сама называла таковыми (psychological tricks), не подорвут её авторитета и не повредят ни ей, ни её делу во мнении людей знающих, которые не полагают всех её заслуг в том, что, живя в Индии, она выучилась нескольким проявлениям сил, в Европе ещё неизвестных. Со временем, впрочем, и в них ей отдана будет справедливость, как сразу её воздал Радде-Бай, основатель «Русского вестника», так высоко её ценивший, что среди многотрудной своей деятельности находил время быть с нею в личной переписке.
Вот несколько строк из одного письма к сестре моей Мих[аила] Никиф[оровича] Каткова, прямо указывающие на его отношения к ней и её делу.
«Милостивая Государыня, Елена Петровна!
Пользуюсь первою досужею минутою, чтоб отвечать Вам. Вы не можете сомневаться в моём желании упрочить за моими изданиями Ваше сотрудничество.
Я высоко ценю и талант Ваш, и Ваши поиски в эзотерических сферах и вовсе не принадлежу к «людям науки», которые полагают мудрость в том, чтобы не хотеть знать того, чего не знают.
Я не отступаю пред сообщениями чисто фантастического свойства и если затрудняюсь, то лишь там, где начинается объяснение – тенденция, пропаганда… Считаю долгом сказать, что в основе всех религий я признаю трансцендентную реальность и не считаю их баснями; но остаюсь при убеждении, что есть только одна религия, в которой всё трансцендентное других религий находит своё истинное место и истинное освещение. Но об этом пришлось бы говорить много, а я должен спешить моим ответом, который и без того, боюсь, слишком запоздал… Удивляюсь и радуюсь тому, как крепко и живо в Вас, – так давно оставившей родину, – русское начало, которое так хорошо сказывается в Вашем языке и Ваших русских симпатиях.
Примите уверение в моём почтении и искренней преданности.
Указав, в начале этой главы, на источники, где желающие узнать, как и чем сторонники Е. П. Блаватской опровергают доводы Психического Общества, могут прочесть их показания, я, с позволения г. Соловьёва, оставлю всё это, давно упразднённое компетентными людьми дело, лишь им одним воскрешённое из мёртвых, а займусь возражениями на некоторые собственные его выноски и замечания.
Хотя он и обвиняет меня в неправильных переводах (почему такие некрасивые и бездоказательные обвинения столь легко срываются с пера переводчика Ходжсоновского «Отчёта»? Мне остаётся только удивляться!), а на стран. 229-й – апр. «Р.в.» в злостных голословных показаниях, – я смело на него самого обращаю последнее обвинение. Да ещё к нему прибавлю, что он своё голословное обвинение на меня взвёл в прямой надежде, что читатели не будут сличать его указаний с моей статьёй в «Русск. обозрении»... Прошу желающих знать правду сличить. Они увидят тогда то, что, несомненно, должен был видеть г. Соловьёв, – а именно, что я везде делаю ссылки и что говорю, – говорю не по произвольным заключениям, даже не по письмам сестры моей, а руководствуюсь показаниями бывших там свидетелей и между ними супругов Купер-Оукли. Подчёркиваю эту фамилию не даром, а потому, что мне из-за неё ещё придётся поговорить с моим беспощадным «обличителем».
На стр. 226-й нахожу остроумную выноску, где г. Соловьёв, со свойственным ему легкомыслием, укоряет сестру мою во лжи. Похвалялась-де она ему, что один теософ ей даёт 40,000 р., другой – две деревни, третий предлагает все издержки взять на себя по судебному делу против Куломбов и иезуитов; а она-де печатно заявляет, что у неё «нет денег на ведение процесса»...
В самом деле! Удивительная вещь: дают добрые люди деньги, а глупая женщина их не берёт, – предпочитая лично потерпеть, чем пользоваться великодушием друзей и разорять их на своё дело. И если б знал г. Соловьёв, как я это знаю, сколько раз Е[лена] П[етровна] делала эту глупость, – отказывалась от очень больших сумм, если дававшие их требовали, чтоб она себе взяла их, а не обратила в пользу Общества, он ещё больше бы диву дался... Если б после первых порывов отчаяния она не поняла, что клеветы и предательства, мучившие её, на Обществе её не отзовутся нимало и теософического движения не остановят, – о! Тогда она без сомнения воспользовалась бы щедрыми предложениями преданных ей лиц. Но, ради удовлетворения собственного самолюбия, ради личной мести и личного оправдания – она не желала тратить чужих денег.
Неужели могут быть люди, которые этого не поймут или даже осудят?
(Стран. 227). Касательно удивления г. Соловьёва, что, несмотря на его старания по переводам писем моей сестры на французский язык (писем, надо заметить, для него одного писанных, в минуты крайнего увлечения, тревоги, порою полного отчаяния); несмотря на усердное распространение, в назидание французов, изобличительного отчёта и всяческих правд и неправд, – Теософическое Общество и дело её не только с нею не умерло, но всё разрастается, – замечу опять-таки, что это потому, что никакие старания врагов сути и смысла сочинений Е.П.Б[лаватской] изменить не могут. Он обращает внимание читателей на то, что её письма к нему «особенно интересны для сличения их с действительными фактами». Я тоже надеюсь, что сличение его писем с тем, что он теперь рассказывает, окажется интересным.
На странице 228-й чрезвычайно наивная выноска. Вот что в ней замечает г. Соловьёв:
«Когда я, ещё в Париже, спрашивал Блаватскую, – на кого она оставила свой дом в Адьяре, – она отвечала: “О, я совсем спокойна, там у меня моя старая приятельница и помощница, m-me Coulomb, и её муж – люди, преданные всецело моему делу”...». «Потом, вдруг, – продолжает он, – к моему изумлению, в лагере защитников Блаватской эти друзья и помощники превратились в “подкупленных слуг”…».
Вот, подумаешь, чему нашёл г. Соловьёв удивляться!.. Мало ли бывает примеров, что старые, преданные слуги считаются друзьями. Не диво также, что иногда и слуги тоже и лицемерят, и изменяют, из друзей становясь врагами... Сестра моя много лет знала Куломбов. Не подозревая, что они бежали из Египта и Франции, где их разыскивала полиция, она, встретив их в Бомбее в полной нищете, спасла их от голодной смерти; приютила их, взяв её в экономки, а потом, возвысив в нечто, вроде секретаря, так как она знала английский и французский языки. Мужа её, с переездом в Адьяр, тоже из рассыльного и столяра, сделала служащим, поручив ему библиотеку. Вначале из деликатности сестра не называла их слугами; когда же они наделали гадостей, сплетен, всякими каверзами выманивали у всех деньги, пришлось их поставить на их места; а в отсутствие хозяев они столько причиняли беспокойств и неприятностей всем в Адьяре, что оставленный во главе управления mr. George Lane-Fox написал в Европу полковнику Олкотту, что вынужден их прогнать и заявил это им, – чтоб они искали себе места. Вот тут-то оба, муж и жена, и спохватились, что им выгодней послужить иезуитам, обещавшим хорошую плату за уличение Блаватской в шарлатанстве. Выпросив у Лейн-Фокса время для отыскания занятий, муж начал в спальне Елены Петровны устраивать свои столярные махинации, о которых я рассказываю (не от себя, а словами г-жи Купер-Оукли) на стран. 583 моей статьи о сестре в «Русском обозрении»; а жена прибегла к продаже Паттерсону заранее ею сфабрикованных писем, которые ещё прежде задумала утилизировать, но не могла решиться[29]… Чему же дивится г. Соловьёв? Ошибка сестры моей, считавшей Куломбов преданными ей друзьями?.. Но, Боже мой, он-то уж должен знать, что моя бедная сестра не раз ошибалась в людях и не раз сама себя предавала во власть «неверных друзей» излишней откровенностью. Удивляться же их измене – тоже, с его стороны, довольно странно!.. Почему же он сам себе не удивляется?.. Он, ведь, не этим простым людям чета, – знаменитый литератор, – а превратился же из преданного друга – в ярого врага!..
Конечно, он, объясняя эту перемену, ссылается на более или менее благовидные forces majeures[30]: извиняет своё лицедейство «ревностью ко православию» и стремлением спасти отечество от неведомой опасности; но, ведь, и предатели Куломбы действовали в силу тех же «благородных чувств». Иезуиты, быть может, направили и их сердца и умы к «изобличению воровки душ», вот они тоже спохватились и начали орудовать «ad majorem Dei gloriam[31]»... Дело бывалое!
Теперь насчёт экспертизы почерков. Если г. Соловьёв ссылается на свидетельство, указываемое в Отчёте Психического Общества, – каллиграфов лондонских, определивших сходство почерков Блаватской и Махатм, то я могу только его спросить: почему он не приводит тут же мнения экспертов берлинских? Ведь мнение придворного каллиграфа, Императора Германского, при берлинских судах, Эрнста Шуце, которому были целой комиссией, представлены несколько писем обоих «учителей» и Е. П. Блаватской, вошло во все оправдательные статьи её защитников. И каждый добросовестный повествователь событий, касающихся этого сложного дела, должен бы упомянуть, как решительно было берлинским экспертом заявлено, что в почерках их «нет ни единой сходной черты»... Точно также разделились мнения и официальных экспертов в Мадрасе, о чём было засвидетельствовано во многих нетеософических органах Индии и Англии. Да не в обиду всем каллиграфам, служившим Ходжсону и Соловьёву, я позволю себе «голословно» спросить: когда могла сестра моя, заваленная письменным делом, – своими громадными сочинениями, изданием своих журналов, беллетристическими статьями в иностранные журналы (последние только её и кормили), формированием Общества, еженедельными лекциями и пр. бесчисленными занятиями, – найти время для фабрикования писем? Да не единичных, – а целых серий, из которых составлены теперь два тома[32]. Да ещё на всевозможных индийских новых и древних языках!.. Это первый вопрос, повергающий меня в недоумение, а вот – второй: кто ж их теперь пишет?.. Они продолжают сыпаться в точно таких же странных, «тибетских»[33], – как называют их теософы, – конвертах и теми же почерками. У меня есть на это официальные документы из Главной квартиры, в Лондоне.
Да не подумают читатели, что я пишу это, желая доказывать существование Махатм или доподлинность их заоблачной корреспонденции, – отнюдь! Я их писем не получала, их не видала и не особенно ими интересуюсь, – хотя во имя правды скажу, что не могу отрицать их существования... Это – другой, сторонний вопрос. Теперь я хотела бы только доказать, что несправедливо делать из моей сестры, – послужившей Обществу многими действительными заслугами, – какого-то козла-грехоносца, ответственного за все его путаницы и беззакония, – если и допустить таковые.
Есть у г. Соловьёва ещё одна, замечательная выноска, на стр. 235.
Дабы объяснить – возможность её происхождения, я здесь должна сказать, что у Е. П. Блаватской, между многими её хорошими качествами, было одно, доведённое до крайности, а потому обращавшееся уже в недостаток, из-за которого ей первой приходилось страдать: она ненавидела лицемерие. С друзьями и врагами она всегда была искренна; высказывала свои чувства прямо и часто так остроумно клеймила людей, возбуждавших её негодование или презрение, что кличка оставалась за ними навсегда. Таким образом, она от ранней молодости имела очень много врагов; особенно в Тифлисе, где она написала на всё ей современное общество живую и верную, но очень злую сатиру, ходившую по рукам. Из этого можно заключить, сколько у неё там было недоброжелателей и сколько на неё взводили, в отместку, невозможных выдумок!
Некоторые из них были очень злы, другие – нелепы и очень многие циничны до безобразия и невероятия. Для примера укажу на измышления, которыми воспользовалась фрейлина См[ирно]ва (не знаю, почему г. Соловьёв её называет старухой См[ирно]вой, тогда как она ещё и теперь нестара). Какие-то лжецы, вероятно из обиженных остроумием Е[лены] П[етровны] тифлисцев, рассказали ей басни, которые она, в невинности души, распространяла за истину. Из-за этих нелепостей, Блаватской пришлось прибегнуть к свидетельству Главноначальствовавшего на Кавказе, князя Дондукова-Корсакова, своего старого знакомого, который и выслал ей официальное удостоверение в том, что ни в каких воровствах или предосудительных делах она не бывала замешана, с полицией не имела никакого дела и из Тифлиса не была выселена, а уехала по собственному желанию. Это то самое «свидетельство», которое возбуждает насмешки г. Соловьёва: оно-де хуже иного посрамления!.. Согласна, но что же делать с иными, неразборчивыми обвинениями, не гнушающимися никакого оружия?..
Своим замечанием (на 235 стр.) о «совершенно невозможной в печати истории», – которую он, однако, нашёл возможность втиснуть в один из лучших русских журналов! – г. Соловьёв напомнил мне замечательно верное определение сестры моей, в одном из позднейших писем о нём:
«Чтò я сделала этому человеку? – восклицает она. – Желая мне вредить, он обращается в гиену-гробокопательницу. Он разрывает не только мусор и помойные ямы, но старые, истлевшие могилы и бьёт меня костями скелетов…».
Да, нечистоты мусорных ям – не оружие честного врага, уважающего себя и людское о себе мнение!..
У кого в прошлом не найдётся своих грехов? Где тот избранный счастливец, который, оглянувшись, не увидит за собой камней преткновения в прошлом, которые, при зложелании, можно воздвигнуть в горы нечистот?.. Но дело ли добропорядочных людей заниматься этой неблаговидной работой?.. Да и кому не вспомнится, при таком взваливании камней на чужие головы, а тем более на чужие могилы, – слова Спасителя: «Кто не чувствует за собою греха, – да подымет первый камень»?.. Ох! как тяжёл, должен быть этот камень!..
Но заканчивает г. Соловьёв свои показания в апрельской книге «Русского вестника» такою прелестью, что на неё невозможно не указать во всей её неприкосновенности.
Он находит «курьёзнее всего», что я, обвиняя Ходжсона в предвзятой недобросовестности, в односторонней замкнутости, в которой он производил следствие в Адьяре, довольствуясь показаниями одних обвинителей, привожу неблаговидный факт, что он отказался показать Е[лене] П[етровне] и друзьям, её письма, – сфабрикованные экономкой Coulomb.
Я точно это осуждала и осуждаю, вполне соглашаясь с мнением честных людей, указывающих на это злоупотребление, как на лучшее доказательство, что Ходжсон боялся сличений. Но – признаюсь, – мне никогда и в мысль не могло прийти оригинальное объяснение, которым г. Соловьёв оправдывает этот инцидент, находя возможным даже хвалить в нём мудрость Ходжсона...
«Как будто не вполне ясно (?!), – объявляет он, – что если бы такие документы, в которых заключался смертный приговор «madame» (?!?) и её ближайших пособников, – были показаны этим осуждённым на смерть (здесь курсив автора), то они не стали бы церемониться: они просто (?!) вырвали бы документы из рук следователя и уничтожили бы их…».
Ай-ай-ай!.. По каким примерам судит г. Соловьёв?!.
Правда, он очень решительно называет теософистов всевозможными позорными кличками, но всё же!.. Или неужели он серьёзно думает, что такая вещь возможна?!. Возможна и даже – «проста»?!.
В таком случае, как я счастлива, что он не имел доступа к своим письмам, хранящимся у меня.
VIII
В майском № «Русского вестника» г. Соловьёв продолжает тянуть ту же канитель «отчёта» Ходжсона, Майерса и К°, – отчёта, в сущности, долженствующего возвысить мою сестру до степени женщины гениальной, в особенности в глазах таких людей, как он, не считающих зазорным обманывать и лицемерить в виду общественной пользы. Если он имел задачей «спасение парижских теософов от злых обманов воровки душ», то она сама, Е. П. Блаватская, имела цели ещё несравненно шире и благодетельней: спасение всей Западной Европы, – пожалуй – всего мира, – от наплыва материализма, от козней безбожников, не верующих ни во что духовное, отрицающих бессмертие и праведное воздаяние. Человек, держащийся правил Лойолы, как он, – должен был бы преклоняться пред людьми, не смущающимися «маленькой ложью» ради большого блага.
Это простая логика!
Итак, я положительно прихожу к убеждению, что г. Соловьёв, не ведая тех сторон деятельности Е. П. Блаватской, за которые прямодушные и знающее люди уважают мою сестру, на свой лад прославляет её: её умение хитрить и надувать почтеннейшую публику, ради её же, этой публики, пользы. Осуждает же он в ней свою собственную манеру «воздействия на массы», вероятно, по привычке не сознаваться в своих настоящих чувствах...
Невольно придя к такому заключению, я, отныне, упраздняю всякое чувство негодования против него и ещё хладнокровнее буду стараться лишь восстановлять истину с точки зрения не столько своей собственной, как людей, которым, в данных вопросах, должен по праву принадлежать авторитет.
Так, к странице 232 XIII главы его произведения, или «памфлета», как он заменяет везде слово статья (не переводя его почему-то с английского, – хотя оно по-русски имеет совершенно другое значение), я должна приложить документ, явно доказывающий ложь г. Ходжсона. Вот его слова:
«Главные лица, утверждающие, по собственному опыту, (кроме Блаватской) о существовании братства в Тибете – м-р Дамодар и м-р Баваджи».
Это говорит Ходжсон, а за ним утверждает г. Соловьёв.
А вот, что можно прочесть в газете «Boston Courier», от 18 июля 1886 г. Это газета официальная, не принадлежащая ни с какой стороны к Теософическому Обществу.
«Мы, нижеподписавшиеся, были несказанно удивлены, прочитав “Отчёт Психического Лондонского Общества” о теософии. Смеем заявить, что существование Махатм, – иначе Садху, никоим образом не измышлено ни г-жей Блаватской и никем другим. Наши прапрадеды, жившие и умершие задолго до рождения m-me Blavatsky, имели полную веру в их существование и психические силы, знали их и видели. И в настоящие времена есть много лиц в Индии, не имеющих ничего общего с Теософическим Обществом, находящихся в постоянных сношениях с этими высшими существами (Superior Beings). Мы владеем многими средствами для доказательства этих достоверных фактов; но нет у нас ни времени, ни охоты доказывать это европейцам...
Пусть м-р Ходжсон и его “комитет”, – если они смотрят на дело серьёзно, – поищут правды поглубже, и тогда они, быть может, найдут, что поспешили и составили весьма ошибочное заключение.
Наших верований г. Ходжсон, разумеется, не поколеблет ничуть; но только он со своим комитетом выказали великое невежество и полнейшее незнание истории Индии и индусов!.. Сдаётся нам, что пресловутое “Общество для психических изысканий” не удовлетворило ни единой надежды мистиков, возлагавших упование на его открытие; но более грубой ошибки, как его Отчёт о Теософическом Обществе, – оно ещё никогда не совершало».
Этот «протест пандитов (учёных), из Негапатама», – страны, считающейся в Индии, как бы вместилищем просвещения и, в особенности ,знатоков древности ,по преимуществу, – был оттуда прислан в Адьяр за подписью семидесяти лиц и хранится там в библиотеке; копии были разосланы оттуда же, из Негапатама, а не Адьяра – в другие страны, где были напечатаны многими газетами и перепечатаны всеми существующими двадцатью теософическими органами.
На страницах 250 и 261-й нахожу остроумное замечание г. Соловьёва насчёт моих лжей. Он находит, что, относясь к показаниям Синнетта, биографа моей сестры, вполне беспристрастно, т. е. заявляя о том, что мне в них кажется неверным и что заведомо ложно, – я сама себя «наказываю» (ценю деликатное замечание гоголевского выражения!), подобно унтер-офицерше в «Ревизоре»... Мне сдаётся, что употребление такого сравнения в отношении особы гораздо старше его, да к тому же женщины, – не столько язвит меня, сколько роняет благовоспитанность «блестящего русского писателя». Это, впрочем, дело вкуса, но раз он нашёл возможным приложить его ко мне, да будет и мне позволено сказать ему, что именно ею, – этой гоголевской меткой фразой, он сам себя высек, – и по заслугам!
Как не стыдно ему печатно сознаваться, что ему недоступно понимание самой простой добросовестности? Он укоряет меня в том, что я указываю нелицеприятно неправду, не разбирая, идёт ли она в разрез или в унисон с моими собственными желаниями?.. Он не понимает, что можно ссылаться на чужие мнения вообще, но необходимо заявлять, если что-либо в них кажется неверным?..
Это оригинально!.. Оригинально и – характерно!
«Десять лет тому назад, – иронизирует мой беспощадный обличитель, – она выпустила в свет брошюру: “Правда о Е. П. Блаватской”, а теперь («Русское обозрение» 1891 г., ноябрь, стр. 249) признается, что в этой правде... не заключалась правда!». Прочитав это, многие, вероятно, так и сочтут меня за лгунью; а между тем, вот мои показания, из которых г. Соловьёв извлекает это убеждение.
Приступив к рассказу о ранних годах молодости Е. П. Блаватской, когда она почти десять лет пропадала для нас без вести, я откровенно говорю читателям, что предпочитаю умолчать об этом времени, вследствие того, что рассказы о нём сёстры моей были очень путаны и сбивчивы. «Она так много сама позабыла и перепутала, – говорю я, – и, как в наших беседах за последние годы (то есть ещё через двадцать лет, после её вторичного и окончательного отъезда из России) оказалось, желала преднамеренно скрыть, что я предпочитаю теперь о тех годах ничего не рассказывать»... Слово – теперь – именно относилось к тому, что выражено мною раньше, – в брошюре, написанной мною в 1881 году, то есть прежде, чем я свиделась с сестрой через двадцать лет разлуки (с 1864 по 1884 год). Вот мои слова:
«Теперь (т. е. узнав то, что ныне узнала) я не рискну даже утверждать, что немногое, рассказанное мною самой, со слов её, в моей брошюре: “Правда о Е. П. Блаватской” было бы полною правдой».
Вот за что г. Соловьёв нашёл возможным укорять меня во лжи и предавать посмеянию русских людей, сравнением с гоголевской «унтер-офицершей». Да решать теперь эти самые читатели, кто сам себя нещадно... «наказал»?
Я ничем никогда не морочила читателей и не «заманивала» их, – как упрекает меня он тут же. У меня, правда – всегда, правда!
Вот в чём вся моя провинность против г. Соловьёва, но, надеюсь, она меня не погубит во мнении других, беспристрастных людей.
Если он так явно пренебрегает истиной и подтасовывает свои карты против живых людей, – возможно ль верить оскорбительным показаниям его – на мёртвых?..
Это я говорю в ответ на его рассказ на стр. 254-й.
«Она (Е. П. Блаватская), – говорит он, – страстно желала сделаться тайным агентом русского правительства в Индии».
Она этого желала и об этом говорила г. Соловьёву?!? Господи помилуй, да она в таком случае была «совсем уж, вообще, или в то время» – говоря слогом автора «Горбатовых», – отпетой идиоткой или совершенно сумасшедшей. Разве ж Соловьёв был тогда шефом тайной полиции?.. С этой стороны его деятельность мне окончательно незнакома!
Перепорхнём на страницу 261-ю майского «Р. в.» и прочтём в ней последние строки:
«Скандал произведён в Лондоне (это «отчётом» Ходжсона?) настоящий. Е. П. Блаватская сидит в Вюрцбурге и молчит (если б пишущий дорожил правдой, он бы сказал: и дни и ночи пишет своё европейски-известное сочинение «Тайную Доктрину»)». «Но теософы, – продолжает он, – ждут, что вот она сейчас встанет и, с помощью Махатмы Мории, Кут Хуми и их “чел”, грянет таким ответом, от которого все психисты исчезнут с лица земли…».
Ну, да. Разумеется. Но только г. Соловьёв перемешал себя лично с всесильными Махатмами: ведь это он, в это самое время, обещался Е. П. Блаватской произвести «такой триумф, от которого похерятся все психисты» (в письме от 8 октября 1885 года). Да ещё подтвердил внушительно:
«Да! Так оно и будет!»
Ну, понятно, что после этого обещания все и ждали разгрома лжесвидетелей Ходжсона, Майерса и Кº. А теперь он всё это перезабыл и свои собственные намерения валит на Махатм... Удивительный человек!
Нет, меня положительно, по свидетельству г. Соловьёва, следует сослать на жительство, хоть в места не столь отдалённые!
На странице 263-й он торжественно меня обвиняет в том, что я преднамеренно заявляю
«вздор (и всё по наущению злокаверзного Теософического Общества, заметьте!), уверяя, будто в бумагах Блаватской было найдено собственноручное письмо г-жи Куломб, где она клянётся, что “она не указывала обманов”», и т. д. «Всякий легко поймёт, – продолжает он, – что если бы такое письмо действительно было, и было бы подлинным, то оно не пролежало бы в бумагах Блаватской до её смерти…».
Прочитав эту «строгую реприманду[34]» за свойственное мне распространение «вздора», я опечалилась... Вытащила из-под спуда свою статью в газ. «Новости», чтоб проверить, какое это я там поместила «вздорное письмо», собственного сочинения?.. Смотрю: какое же там письмо, которым эти легкомысленные теософисты воспользовались лишь после смерти сестры?.. Вижу – такого нет!.. Сличаю приведённое мною в переводе письмо... и с облегчённым сердцем вижу его помещённым во всех почти защитительных статьях, писанных в самое время происшествия... Слава Богу: ещё раз г. Соловьёв... ошибся!..
Оно конечно, – errare humanum est[35], – а г. Соловьеву, как видно, с сей стороны, действительно, «ничто человеческое не чуждо», – тем не менее, немножко компрометантно историческому повествователю так небрежно относиться к материалам. Следовало бы ему прочитать, ну хоть одну оправдательную статью в защиту той, на которую он так щедро сыплет одни обвинения, под видом «её жизнеописания»... Взял бы он, да вместо того, чтоб у меня просить свои письма обратно, попросил кое-какие книжечки. Я б ему их одолжила и даже перевела с удовольствием... Увидал бы он тогда, на первой странице брошюры, напечатанной следственной комиссией, в Мадрасе в 1885 г., это самое письмо, о котором я, по его бесцеремонному заявлению, сказала «вздор».
Так как он его сам, жаль, не привёл, а некоторые читатели «Русск. вестника», быть может, газ. «Новости» не читали, так уж да будет мне позволено, в сестрино оправдание и своё удовольствие, перевести его ещё раз.
Вот это письмо, опубликованное тотчас же, когда разыгралась гнусная, предательская комедия негодяев Coulomb, иезуита Паттерсона и «одураченного юнца» Ходжсона. Скажу в объяснение, что оно было написано «Куломбшей», как между нами называла её сестра моя, – в то время как Сент-Джордж, Лейн-Фокс, Гартман, и Дамодар заявили ей, чтоб они оба, муж и жена, искали места; не совсем уверенная в щедрости Паттерсона, она ещё дорожила приязнью Е. П. Блаватской и поспешила ей написать в Европу следующее:
«…Быть может, я что-нибудь и сказала в моём гневе, но я клянусь всем, что для меня свято, что никогда не произносила слов: обман, секретные ходы, ловушки; ниже, что мой муж вам помогал, каким бы то ни было образом. Если язык мой произнёс эти слова, – молю Всесильного излить на мою голову худшие в природе проклятия».
В то же, приблизительно, время она писала Олкотту.
«…Никогда я не говорила про обманы! Никогда не говорила, что мой муж был сообщником madame. Да ведь я, по меньшей мере, была бы дурой'', если б сама обвиняла своего мужа – единственного человека, которого люблю я на земле, в том, что он способствовал таким унизительным штукам!».
Оба эти письма хранятся в Адьяре. Их видели сотни лиц, заинтересованных в деле. Я, разумеется, их показать не могу; но могу показать брошюру, где они опубликованы в 1885 году.
Кто же говорит вздор – г. Соловьёв?
В майской книге «Русск. вестника» ещё остаются две выноски, на которые я должна возразить. (Стр. 265). Е.П.Б[лаватская]. не выдавала себя за вдову, но была признана таковою тифлискими властями, выславшими ей в 1884 г. свидетельство, где она была названа «вдовой д. с. с.[36] Н. В. Блаватского». Не будучи с ним в сношениях более двадцати пяти лет, она совершенно потеряла его из виду и не знала, как и мы, – жив он или умер. Это вина тифлиской полиции, а никак не её.
(Стр. 266).
«Что такое она отдала Теософическому Обществу – неизвестно!», – восклицает г. Соловьёв.
Быть может, ему это и неизвестно, хотя довольно странно для человека, занимающегося литературой, не знать, что книги кое-что приносят авторам... Е.П.Б[лаватская] отдавала при жизни всё, что получала за свои английские книги, целиком в Общество; она тратила на себя лишь исключительно то, что зарабатывала беллетристикой в русских и др., сторонних журналах. Кроме работы своей при жизни, она ещё завещала Теософическому Обществу все свои отдельные издания, весь доход с её книг на вечные времена. Если принять в расчёт, что некоторые из них (как «[Разоблачённая] Изида» и «Тайная Доктрина») очень дороги и расходятся очень быстро; что в течение 15 лет первая имела 18 изданий (по 3000 экземпляров), а вторая, изданная три года тому и ещё не законченная (3-я часть теперь печатается), уже вышла третьим изданием и готовится полностью к четвёртому, – то восклицание г. Соловьёва окажется, как и многое в статье его, – неосновательным.
IX
После перерыва целого лета, г. Соловьёв, продолжая свои рассказы всё в том же духе неподкупного «жреца истины», заявляет читателям сентябрьского «Русск. вестника», что после отъезда сестры моей (осенью 1884 г.) в Индию, он всю зиму ничего не знал о ней.
Я на это имею сказать ему одно: если он интересовался её faits et gèstes[37], то следовало ему не отпускать её от себя в тот знаменательный для него декабрьский вечер, когда она ему явилась, не расспросив её лично обо всём... Зачем он упустил случай захватить её покрепче за складки её «чёрного балахона», да и не выпускать её «астральное тело» обратно в Индию, – благо оно говорить умело...
Вы думаете, я шучу? Отнюдь!.. Вот, сами прочтите этот отрывок его письма ко мне, от 22 декабря 1884 г.
«…Недели три тому назад, мы обедали в знакомой вам зелёной столовой, с В-ой. Ел я с аппетитом; пил, как и всегда, очень немного, – одним словом, был в своём виде. Окончив обед, пошёл я наверх, в свою комнату, за сигарой. Отворил дверь, зажёг спичку, засветил свечу – а передо мной стоит Елена Петровна, в своём чёрном балахоне... Поклонилась, улыбнулась – “вот и я!” – и исчезла. Что же это такое??!! Опять вопрос ваш: галлюцинация или нет? – Да я же почём знаю!?. Что от этого можно с ума сойти – это верно! но я постараюсь этого не сделать...»
и пр. за подписью:
Ну, ведь вот, какие штучки-то со Всев. Сергеевичем случались!.. Уж тут он никаким «портретом» Е. П. Блаватской ослеплён не был, – да и гипнотизировать ей его из-за моря-океана, думаю, несподручно было? Значит, она у него точно в гостях побывала... И такой замечательный «факт» он, вдруг, в воспоминаниях своих о знакомстве с ней, помянуть позабыл!.. Ну, не права ли я, называя его память весьма своеобразной?.. Хорошо, что его письмо помогло мне восстановить этот пробел в его знакомстве с нею.
Потом он ещё и 7 марта 1885 г. писал мне:
«Здесь недавно был молодой Гебхард, вернувшийся из Индии. Он рассказывал, что Ел[ене] Пётр[овне] совсем плохо. Затем мы получили циркуляр Олкотта, объявляющий о совершившемся с нею чуде (её выздоровлении). Но, во всяком случае, на мой взгляд, дни её сочтены. Ужасно рано!.. И года небольшие, а главное – ум ясен и талант литературный в полном развитии... Но уж что ж об этом!..».
Когда весною сестра приехала вновь в Европу и написала ему (приведённое им на стр. 153) письмо из Неаполя, он сам разразился непритворно-радостным ей приветом.
«Дорогая Елена Петровна, не знаю, как и выразить вам, до какой степени я рад, что вы в Европе! – всё же кажется, что ближе, что свидание возможней. Впрочем, ваш выезд из Индии не показался мне новостью: при первых же известиях о движении нашем в Азии[38], А. стала уверять меня, что вам непременно от англичан будут неприятности и что вы уедете.
Помните, – я говорил вам, что сильно близится время, когда русский человек и индус сойдутся? Вам казалось, что это ещё нескоро. А вот видите, – и помимо человеческих желаний и планов неизбежные исторические судьбы делают своё дело... Не могу достать здесь “Русск. вестника”, но меня уж давно извещали, из Москвы, что “Голубые горы” ваши должны начаться. Верно, уж напечатаны. Теперь ведь самое время писать об Индии... Выздоравливайте!!! Черкните словечко. Буду писать вам, освободясь от работы, и часто.
Вам искренно преданный
В то же время г. Соловьёв и меня, в каждом почти письме, дружески извещал о сестре и «о деле её в Париже», хотя это время для него было хлопотливое, очень занятое и, по многим обстоятельствам, крайне тяжёлое. Я это упоминаю не без цели: на странице 160-й (сент., «Русский вестник») он даёт читателям возможность предположить, что был так великодушен, что – quand même тёте, несмотря ни на что, – помог сестре моей в её временной нужде...
«Через несколько дней, – говорит он, – в самую критическую для себя минуту, Елена Петровна получила “от неизвестного друга” некоторую сумму денег и, конечно, пожелала узнать – кто это пришёл ей на помощь?.. Она писала m-me де Морсье…» и т. д. «Разумеется, m-me де Морсье ничего не могла сообщить ей»...
Очень жаль! «Некоторая сумма», наверное, была бы давно возвращена «неизвестному другу», если б сестра или я могли догадаться о его личности, – но заподозрить в этом великодушии г. Соловьёва было совершенно невозможно: одновременные письма его к нам, от 3-го, 18 и 19-го мая 1885 г. равно повествуют о его собственном, крайнем, в то время, оскудении... Все письма у меня пред глазами: я, как только прочла это косвенное признание, – тотчас обратилась к ним, и вижу в его письме ко мне такие подробности о том, кто и как «обобрал» бедного г. Соловьёва (и без того уж бывшего по его выражение, «tout à fait à sec»[39]), что совсем умилилась его добродетельной щедростью!.. Как мог он так долго терпеть, – великодушно ждать кончины своей бессознательной должницы, – чтоб, наконец, преподать миру пример такого классического подвига, когда ни отдать, ни поблагодарить его она уже не может?
Но, очевидно, «подвиги великодушия» г. Соловьёву не редкость! Вот и ещё один таковой: письмо к сестре моей от 18 мая 1886 г. Если принять во внимание, что оно им было написано именно в те дни, когда, облагодетельствовав своего врага «некоторой суммой», он тут же убедился (в десятый раз!) в её преступности (о коей и заявляет на 163-й странице: «Предо мною было побоище каких-то двух грандиозных “пуассардок”[40]» и т. д.), то это письмо является положительно подвигом. А потому я привожу его, насколько возможно, целиком.
«Дорогая Елена Петровна, что же это значит? Я вам писал два раза и сам опускал письма на почту. От вас получил одно письмо, в котором вы извещаете меня о своём приезде в Torre del Greco. Сегодня m-me de Morsier сообщила мне, что вы моих писем не получали. Я немедленно же послал вам телеграмму; это письмо отправлю заказным!.. Куда исчезают наши письма – непостижимо!.. Но, во всяком случай, сомневаться в моём к вам искреннем расположении вы не имеете никакого права. ''Я'' ''не меняюсь'', – это не в моём нраве! – Я тоже очень болен, дорогая Е[лена] П[етровна], у меня сильная болезнь печени, и никто мне не помог здесь. Бед и неприятностей не оберёшься...
Верьте, что делаю всё, от меня зависящее, чтобы, если только сил хватит и окажется неделя времени, поехать к вам. Но в моём положении это до такой степени трудно, я так всячески связан, что очень боюсь, что это останется мечтою... Что же мне делать?.. Я не имею права жить своей жизнью... У меня была мечта: эту весну провести в Италии, – тогда бы я, так сказать, случайно (?!) встретился с вами…».
Здесь подробности о том, как его обманули и обобрали, а затем далее:
«Вообще, мне в здешних людях привелось сильно разочароваться. Все сношения, сначала приятные, неизменно оканчивались всякой эксплуатацией и грубым посягательством на мой карман...
Сегодня было собрание с Мохини у m-me де Морсье. Мохини объяснялся с Рише (?!); но они не понимают и не могут понять друг друга. Завтра собрание у меня. M-me де Морсье это устроила, не спросясь меня предварительно, – и вдруг обращается ко мне ваша дюшесса и просит позволения явиться... Я должен был ей поклониться с любезной улыбкой. Но как это мне приятно – можете судить! — Да это все пустяки, всё здешнее – un mauvais quart d’heure à passer, rien que ça[41]!.. Может быть пустяком и проделка ваших врагов относительно исследования феноменов. Но силе надо противопоставлять – силу! Я должен видеться с вами! Но у меня одна голова, две руки, две ноги, совсем больное тело, да ещё и карма связывает по всем направлениям... Что же с этим поделаешь?!! Пишите, пожалуйста, хоть что-нибудь. Поправляйтесь – это наше вам сердечное желание.
К этому самому времени принадлежит и письмо г. Соловьёва, приведённое мною в VII главе, – где он утверждает, что всеобщая симпатия и уважение к сестре моей могли только возрасти после происков «этой гадины Куломб» и «ослов» учёных (психистов?).
Неужели это те самые письма, которыми он презрительно извещал Блаватскую, что – «не верит никаким её Махатмам и феноменам»? – письма, о которых говорит так уверенно в конце XVI главы своего произведения? Где же в них повод Е[лене] П[етровне] просить его – хоть ради дружбы не покидать Общества?!. Он ни малейшего намерения в них не изъявляет оставить его... Странно!.. Или те строгие и насмешливые письма неподкупного «жреца истины» к недостойной даже жалости его «жрице» обманной, богини язычников, испарились?.. Ибо, судя по числам, других в то время Блаватская не получала... Уж не «шелухи-ли» её с ним сыграли злую шутку?.. В природе всяко бывает.
Но, вот насчёт весёлого рассказца г. Соловьёва об ошибке в правописании «индусенка» Баваджи, я должна заявить свою непоколебимую уверенность в том, что, если в самом деле он, «по наущению Блаватской написал, вместо “блаженны верующие” – “блаженны врущие”», – то сделал это по её собственному желанию... От неё, такая шутка с г. Соловьёвым весьма могла статься! Несколько писем её, того времени, свидетельствуют, что она уже замечала у него некоторую слабость на язык; ибо жалуется мне на неприятности, происшедшие из-за его не совсем верных показаний и болтливости (она тогда считала эти проявления лицемерия с его стороны лишь легкомысленной болтливостью). Адресуя этот намёк, о блаженстве врущих, прямо г. Соловьёву, она, наверное, желала намекнуть и посмеяться над ним. Вольно было ему не понять её иронии!
X
Октябрьская статья г. Соловьёва прямо начинается с эффектной сценки: неосторожная Е. П. Блаватская опростоволосилась, – уронила «серебряный колокольчик» (тот самый, из которого не звон звенел, а летели аккорды струнные, как бы эоловой арфы, которые я сама и множество людей слышали, не догадываясь о такой интересной «штучке»). Он, разумеется, его учтиво поднял и подал ей, не воздержавшись однако от улыбки, которой доказал ей, что открыл её обман (стр. 231 и 232).
«Елена Петровна, – говорит он, – изменилась в лице и выхватила у меня эту штучку. Я – многозначительно крякнул (о, Мефистофель!), улыбнулся и заговорил о постороннем…».
Желая дать Соловьёву случай ещё раз – «многозначительно крякнуть» и... «заговорить о постороннем», мы ему напомним одно его – тоже «многозначительное»- письмо, писанное им в Лондон:
«Дорогая Елена Петровна, не писал вам потому, что в маленьком домике с садиком было очень неладно. Теперь кое-как успокоилось. Карма жестокая!.. В некий тяжкий момент ясно и громко звенел несуществующей колокольчик на столике, и внезапная мысль о вас пронеслась в голове и сердце…» и пр.
Это что же был за колокольчик, являвшийся в трудные минуты жизни утешать г. Соловьёва?!
Вероятно, дальний родственник «маленькой серебряной штучки», им поднятой в Вюрцбурге?.. Забавно!
Он и дальше презабавно повествует о пузырьке померанцевого масла, которое сестра моя, – желая, чтоб он подумал, что ему Махатма принёс из Тибета розовое (?!?) масло в подарок, преловко ему опустила в карман. Но г. Соловьёв – старый воробей! A d’autres[42]!.. Его – неповоротливая, толстая женщина (которая к тому же еле руками и ногами, опухшими от ревматизма, шевелила, – по его собственному, там же, указанию) – хоть и действовала с юркостью присяжного pickpocket’а[43], – никак не могла поднадуть!.. Вот и опять, бедняга, дуру разыграла!.. Что делать: не посягай на таких зорких и чутких людей!.. Да, кстати, и не отдавай им ключей от своих заповедных шкатулок...
Бедная, малоумная Елена Петровна! Сама послала г. Соловьёва искать какой-то портрет; сама дала ему ключ туда, где она прятала (плохо прятала!) конверты, для фабрикуемых ею писем Махатм и сама себя таким образом выдала всему свету (хоть не искусной обманщицей, да за то дурой присяжной) – ибо, г. Соловьёв, прождав ровно семь лет и выждав её смерти, взял, да и рассказал безжалостно все ею содеянные глупости...
Но если, в главе XIX, г. Соловьёв выставляет мою сестру обманщицей и идиоткой, то надо отдать справедливость, что он не пожалел и себя! Я уверена, что многим честным людям, читавшим его рассказы о том, как он юлил, хитрил, льстил и обманывал, чтобы другого уличить в прегрешениях, ничуть не худших, чем его собственные, он сам, – г. Соловьёв, во всём блеске его ума, находчивости и благородства, – сделался несравненно антипатичней той, которую желал предать на казнь. Надо, впрочем, не забывать, что он склонен к... увлечениям!..
Прочитав его праведную речь (стр. 234): «Пора же, наконец, кончить эту комедию... Неужели вам не ясно, что ещё в Париже (в июне 1884 г. – значит?) я убедился в поддельности ваших феноменов?» и т. далее; прочитав и сопоставив эти негодующие речи с тем, что он сделал, вернувшись в Париж, – а именно, вспомнив письмо его от 8-го октября 1885 года, – только руками разведёшь от удивления!.. Волей-неволей я должна вновь напомнить читателям это письмо, уже мною приведённое в нескольких его отрывках, по поводу старательных убеждений г. Соловьёвым профессора Ш.Рише, – «в действительности феноменов» и личной психической силы Е. П. Блаватской.
Вот его начало:
«Дорогая Елена Петровна, – что лучше: писать зря или молчать и действовать на пользу своего корреспондента?.. Я подружился с m-me Adam[44], много говорил ей о вас, очень заинтересовал её, и она объявила мне, что её «Revue» открыта не только для теософии, но и для защиты лично вас, если понадобится. Я расхвалил ей m-me de Morsier, одновременно нашёлся и ещё один человек, говоривший в вашу пользу в том же тоне, и m-me Adam пожелала познакомиться с m-me де Морсье, которая остаётся в Париже посредницей официальной между мною и «Nouvelle revue». Вчера состоялось знакомство сих дам, наша Эмилья (де Морсье) в полном восторге... Во всяком случае, это очень хорошо. Сегодня провёл утро у Рише и опять-таки много говорил о вас, по случаю Майерса и Психического Общества. Я положительно могу сказать, что убедил Рише в действительности вашей личной силы и феноменах (?), исходящих от вас…» и пр., известное уже читателям, о том, какой будет триумф, на пагубу психистам, когда он, г. Соловьёв, будет в состоянии ответить и на третий (?) вопрос Рише «утвердительно»... «Да так оно и будет! – заканчивает он это многознаменательное письмо, – ибо, не играли же вы мной, как пешкой!.. Я выезжаю послезавтра в Петербург... что-то будет?!
Теперь я смело обращаюсь ко всем благомыслящим, справедливым и разумным людям и спрашиваю их:
«Неужели г. Соловьёв написал бы такое письмо сестре моей, по возвращению из Вюрцбурга, если бы то, что теперь он пишет, действительно произошло там между ним и ею?!».
Согласны ли они со мной, что, несмотря на всю беззастенчивость лицемерия, в котором г. Соловьёв признается сам, трудно предположить, что после разрыва полного, после всех глупых гадостей, которые он приписывает сестре моей (наущение Баваджи, изловленных конвертов и колокольчика, опускания в карман пузырьков с маслом и пр. нелепости), он взял бы на себя позорную смелость убеждать в её пользу таких людей, как Рише и m-me Adam? Людей – европейски-известных, – людей, которые во всякое данное время могут, путём прессы, спросить его, как смел он их морочить?.. А с другой стороны, если предположить, что он всё это тогда сочинил и не убеждал их в правоте и «действительности силы» Е. П. Блаватской, то она – то сама, – Блаватская, как бы приняла такое письмо унизившего, изобличившего её человека, только что смешавшего её с грязью и тут же радующего её извещением, что он обратил к дружбе и вере в неё двух из передовых людей Европы?!.
Совместимо ли это? Возможно ли?! Не служит ли это письмо (от 8-го октября 1885 года) неопровержимым свидетельством, что всё, рассказанное им на двухстах страницах «Русск. вестника» за октябрь, – его позднейший вымысел на потеху и новое обморочение публики?
Я знаю достоверно, что, приехав зимою в Петербург, он ещё не только верил возможности существования Махатм, но и ждал от них благостыни. Он всем нам говорил об этом по приезде в Петербург; да это, впрочем, и последние слова в письме его подтверждают.
Против страницы 241, где утверждается, что Е[лена] П[етровна] била и тиранила Баваджи (как ранее рассказывалось, что она тиранила и полковника Олкотта), я полагаю, возражать излишне... В статье г. Соловьёва есть много таких страниц, которые действительно (как пишет мне недавно человек, его довольно близко знающий) «хотелось бы перевёртывать щипчиками»...
К таким именно... неудобным страницам относится страница 246-я ХХ-й главы.
Прошу читателей обратить внимание на письмо г. Соловьёва к сестре моей от 3-го мая 1885 г., где он ей напоминает, как она не хотела верить ему, когда он предрекал ей «скорое сближение индуса с русским человеком» – и решить, согласуется ли это неверие Е. П. Блаватской с теми словами, которые он теперь ей приписывает: «Я легко организую громадное восстание. Я ручаюсь, что в год времени вся Индия будет в русских руках!».
А вот я так ручаюсь, что моя сестра никогда бы такой глупости не сказала!
А теперь, пусть сестра моя сама, из-за гроба, говорит за себя – авось, и её оправданию поверят беспристрастные люди. Это письмо ею писано мне весной 1886 г. из Эльберфельда, куда она меня молила приехать и куда так сильно не желал, чтобы ехала я, г. Соловьёв.
«Соловьёв обвиняет меня теперь, что я предлагала себя ему шпионкой русского правительства в Индии... Если человек в здравом рассудке подумает о таком обвинении серьёзно, то увидит его бессмыслицу. Меня публично обвиняют в шпионстве для России и делают это целью и прямым мотивом всех фальшивых (якобы) феноменов и “выдуманных мною Махатм”! Меня – умирающую, отправляют из Индии именно вследствие такого нелепого обвинения, которое, несмотря на его нелепость, могло для меня разыграться тюрьмой и ссылкой только потому, что я – русская, и, уже пострадавшая за эту клевету, не понимающая аза-в-глаза в политике, – я буду предлагать себя шпионкой!.. И... кому же? – Соловьёву!!. Ему, – зная его за неудержимого болтуна и сплетника!.. Да что ж я – желаю быть повешенной, что ли?!. Да ведь я закрыла бы себе этим навеки въезд в Индию. Ведь он, распуская про меня эти слухи, играет прямо в руку Англии и губит меня ни за чтò ни про чтò! Ведь сам он, в продолжение пяти недель (начав ещё намёки с Парижа!), меня уговаривал ежедневно (Н[адежда][45] и Ц[орн][46] – это знают) вернуться в русское подданство, употреблять всё моё влияние на индусов против англичан и за русских. Говорил, что это благородное, великое дело и докажет мой патриотизм! Просил и молил изложить на бумаге всё, что я могу сделать в этом отношении для России в Индии, и что эту бумагу, или “проект”, он сам представит в Петербурге... На всё это я отвечала, что готова умереть, положить жизнь и душу свою за Россию; что нет в России русского подданного, более приверженного Государю и родине, нежели я, – гражданка Америки; но, что я неспособна к этому делу, ничего не знаю в политике, и только бы рисковала своей шеей и сотнями индусов, если бы решилась на это.
Вот, Вера, святая правда, которую я повторю, умирая. Если я перестала быть православной или какой-либо христианкой вообще, – я глубоко верую в загробную жизнь, в наказание и возмездие. Я клянусь всеми силами небесными, что говорю одну правду...
А он имеет медный лоб свои слова – на меня взваливать?
Противно про него и говорить, и вспоминать, как я искренне его любила и доверяла ему!.. Вера, берегись! Он и против тебя пойдёт и без ножа зарежет!..».
Не пророческие ли это слова?.. Не есть ли нынешнее старание г. Соловьёва выказать меня лгуньей, подтасовщицей, изменницей друзьям и т. д., – попытка нравственно меня зарезать?.. Но, на счастье честных людей, у таких господ ножи бывают плохи, – ими самими зазубрены!
г. Соловьёв заявляет, что, пока он был в России, «разыгралась самая возмутительная история, поднятая жертвой донжуанских наклонностей Мохини» – (стр. 251). Я же утверждаю и, если б не недостаток места и времени, я привела бы этому десятки свидетелей, что никто, как сам г. Соловьёв, заварил всю эту кашу, опять-таки помощью своей «загипнотизированной», – как называют её люди, близко знающие их отношения, – жертвы, m-me де Морсье в Париже, и никто, как он сам (а не Блаватская), сыграл в этой истории «весьма скверную роль». Я расскажу, вкратце, всё, что мне достоверно известно; но, прежде ещё, должна привести два письма г. Соловьёва для полной характеристики его отношений к лицам, замешанным в новой сплетне, впрочем, ничем не разыгравшейся, так как мисс Л. оказалась просто фантазёркой, а Мохини пред ней – ничем не повинным. Вот два письма г. Соловьёва.
«Дорогая Елена Петровна.
Мохини – большая умница, и я полагаю, что он удостоится от своего учителя большой похвалы за это пребывание в Париже. Устроить что-нибудь действительно хорошее и серьёзное со здешними господами – нет человеческой возможности; но что можно было сделать – он сделал.
Сегодня у Морсье (это было последнее собрание) он был великолепен! Говорил так хорошо, умно и, главное, кстати, что мне сильно хотелось расцеловать его браминское недотрожество моими, опороченными винопитием, мясоедением и греховными поцелуями, устами. Хоть я известен здесь за скептика, ведущего борьбу со всякой оккультностью (?!) и даже с вами, но всё же, так как известно также, что я ваш соотечественник и предан вам, как “Елене Петровне”, то мои слова могут показаться пристрастными и не произвести должного впечатления. Между тем, Мохини – это что-то вроде маленького непогрешимого папы, в устах коего нет ни лжи, ни пристрастья. В виду этого, я просил его поведать нам всё, что он знает про вас и сделать характеристику. Он приступил к этому прекрасно и начал производить сильное впечатление. Но так как он думал ехать с вечерним поездом, то, взглянув на часы, я убедился, что надо прервать немедля начатый разговор, спешить за его вещами ко мне, накормить его и скорее на поезд – не то опоздает... Вдруг со мной случилось нечто странное! Я весь похолодел (трогали мои руки – как лёд!) Голова пошла кругом, я закрыл глаза; от меня, на бывшего тут сомнамбулу, Эдуарда, пошло нечто, от чего он стал всхрапывать – и вот я, с закрытыми глазами, – увидел вас и почувствовал (?!), что вы желаете, чтобы Мохини остался до утреннего поезда...
Я должен был всем сообщить об этом... Мохини остался и докончил свою блестящую, убедительную беседу.
Теперь, понятное дело, все ждут знать, что это такое было: действительная передача на расстоянии вашей мысли и желания, ваше магнетическое на меня влияние – или моя фантазия, а, пожалуй, даже и выдумка. Больше всех, конечно, интересуюсь этим я, а потому прошу вас не оставить нас в неизвестности. Если это было верно, то пусть Мохини немедля сообщит об этом m-me де Морсье, пока Драмар ещё не уехал.
Жду от вас весточки, будьте здоровы и крепки.
Второе письмо тоже без числа, но очевидно по смыслу, что оно писано по возвращении из Вюрцбурга, осенью 1885 года.
«Дорогая Елена Петровна, Баваджи сидит у нас и через час А. свезёт его на станцию и отправит в Вюрцбург. У меня буквально голова идёт кругом от всяких дел и делишек (??). Письмо относительно Машки на французском языке пошлю вам завтра. Что касается до m-lle Л. (та самая англичанка, которая так жестоко наклепала на Мохини. В. Ж.) – ваше предостережение пришло слишком поздно[47]; но не тревожьтесь: рекомендовавшись, как друг Синнетта, эта особа завладела де Морсье, которую я застал носящеюся с нею, как с каким-то чудом и святою...
Никаких мефистофельских взглядов я не бросал, а сказал ей, чтоб она не очень-то носилась с этой теософкой, ибо оная желала соблазнить челу, который, однако, оказался на высоте своего звания и призвания. Так что, видите, репутация Мохини не страдает нисколько и никаких вам неприятностей быть не может (?!); к тому же, де Морсье отнеслась к неудавшемуся соблазнению крайне снисходительно (?!).
А потом Баваджи ей рассказывал всю эту историю; но без меня, и я не знаю кàк... Представьте! Cette pauvre enfant[48] – старая девка, лет под сорок, с жёлтыми, накрашенными волосами и лицом, представляющим подобие коробки с пудрой, которая так и сыплется!.. Глядя на неё, конечно, никто не заподозрит бедного Мохини.
“[Разоблачённую] Изиду” вышлю на днях… Шлём вам сердечный наш привет. Будьте здоровы, не мучайтесь даром и не мучайте бедного Баваджи, который и так может с ума сойти в холодной Германии.
Вам искренно преданный
Как это дружеское письмо прекрасно согласуется с прощанием г. Соловьёва с Е. П. Блаватской в том строго наставительном виде, как он его теперь расписывает (стр. 249)! Как согласуются его слова г-же де Морсье о том, что «Мохини остался на высоте своего призвания» – с тою тривиальной бранью и словами о бедном индусе, будто бы выговоренными сестрой моей в его, г. Соловьёва, присутствии, о которых он говорит на стр. 249, окт. «Р. в.».
«Она дала мне возможность навсегда расстаться с ней без чувства жалости!», – объявляет он (стр. 260).
Поражённые и потрясённые читатели ждут, что вот, он сейчас вернётся в Париж и окончательно казнит преступницу! Он так и расписывает в своей статье, так что читатели поражены ещё более смелостью Блаватской, о которой он рассказывает дальше (стр. 251):
«Она ни за что не хотела признать, что наши сношения покончены, что я навсегда простился с нею... Она рассчитывала на мою жалость к больной и старой женщине, наконец, на мою “вежливость” (?!). Ну, как же я не отвечу, когда она так жалуется на свои страдания и взывает к моему сердцу?.. Однако я нашёл, что слишком довольно… Я перестал отвечать на её письма…».
Какая неподкупная строгость! какой неумолимый приговор!.. Мы имели бы право считать г. Соловьёва, судя по его «Современной жрице Изиды», за непреклонного в правде мужа чести, за истинного жреца истины, если б... если б маленькие, серенькие листки почтовой бумаги не выдавали, с головой, его шутки!..
Да! Он добрей на деле, чем на словах, этот забывчивый г. Соловьёв: не знаю, что именно он думал о моей сестре, но письма (как то видно из выше приведённых) писал ей преигривые, предружеские и добросовестно старался найти ей полезных друзей в среде науки и литературы, – убеждая Шарля Рише, m-me Adam, да, вероятно, и многих ещё, в её психических силах.
Farceur[49]!.. Это он теперь только придумал разыгрывать судью и палача.
XI
Теперь пришло время и мне заговорить от себя, то есть не опровергать только фальшь г. Соловьёва помощью его собственных писем, но рассказать действительную истину, известную не мне одной и записанную почти полностью и в письмах наших, и в дневниках.
Когда, осенью 1885 г., г. Соловьёв приехал в Петербург, он, в качестве глубоко преданного друга (каким выказывался в продолжение почти двухлетней усиленной переписки со мной и двумя старшими дочерьми моими, уж не говоря о преданности его сестре моей), стал бывать у нас ежедневно. Переписка его – о всевозможных интересных предметах, преимущественно о литературе, о поэзии и лучших их представителях, – очень интересовала дочерей моих; сам же он ещё более заинтересовал всех нас своими живыми рассказами, своими оригинальными мистическими воззрениями на всё в мире и своей добродушной искренностью, иногда доходившей до резкости. Эту последнюю черту он так искусно себе усвоил, что положительно очаровал нас своей правдивостью... Но более всего, надо сознаться, нас привлекали к нему его «несчастья», его незаслуженно-тяжкое положение в семье, дурные, «несправедливые», – как думали мы тогда, отношения к нему всех близких ему по крови и романические подробности его тогдашнего существования, которое нам было представлено с самой возвышенной, симпатической стороны... Словом – Всеволод Сергеевич без труда занял в семье нашей, – только что переселившейся в Петербург с юга и сильно тосковавшей по недостатку родственных или дружеских связей, – место самого близкого и дорогого приятеля.
Тут впервые стали мы слышать от него сомнительные, даже недружелюбные отзывы о сестре моей и её деле. Чтоб доказать, до какой степени эта перемена была неожиданна, привожу несколько строк из письма Елены Петровны, доказывающие, что и для неё такой volte-face[50] г. Соловьёва был неожиданностью, – ergo[51], что его разрыв с ней и все занимательные «сценки» из пребывания его в Вюрцбурге, плоды его позднейших, романических трудов. В ответ на мои удивлённые сообщения о том, что я от него впервые услыхала, она писала мне от 2 февраля 1886 г.
«Удивительный ты субъект, Вера Петровна! Ну за что я стану отвечать “бранью”?.. За то, что ты, по своему внутреннему разумению и совести, говоришь мне, что думаешь?.. Это то, именно, уж было бы не по-теософски с моей стороны. А вот, что я отвечу и должна отвечать “бранью” по адресу тех, кто тебе лжёт, восстановляя тебя против меня и тех, которые ни в чём не провинились и любят тебя больше, чем ты это думаешь, – так это моя прямая обязанность[52]...
В твоём коротеньком письме так и просвечивает тот новый, неказистый свет, в котором тебе представлены теперь и теософия, и я, и Мохини, и даже некоторые добрые христиане... Ну, так послушай же и мою песенку – и не бери на душу греха, – осуждать людей по наговорам, их не расследовав…».
Затем долгое описание скандала с мисс Л. и Мохини, с указанием настоящего источника этих сплетен и главного «раздувателя» их. Но последнему указанию сестры никто из нас не поверил. По-нашему – m-me де Морсье и все на свете могли быть виновны, – но уж никак не Всеволод Сергеич!.. Продолжаю выписки из письма сестры.
«…Далее. Ты пишешь, что 1) Общество распадается; 2) что оно идёт против христианства; 3) что Соловьёв оставляет Общество потому, что убедился в его противохристианстве. – Три лжи''!.. Никогда Общество не стояло так крепко, как теперь… (подробности)... Это кто же тебе говорил о распадении Теософического Общества?.. Неужели Соловьёв?!. А ему верно де Морсье описала?.. Общество идёт против христианства? Оно так идёт против него, что в него вступают члены англиканской церкви, либералы, но христиане горячие; леди Кейтнесс пишет книгу: “Christian Theosophy”; m-r Bannon – другую: “Christ in Theosophy” и т. д. А что Всев. Сергеич расстался с Обществом потому, что нашёл его не христианским, – так я тебе скажу, что эту находку он, вероятно, сделал у тебя в гостиной... Что-то здесь (в Вюрцбурге) ни я, и никто от него не слыхали ничего подобного. А когда бы это было, то непременно услышали бы... Ему бы уж не промолчать, кабы он так думал здесь...».
(Прошу тут заметить, как я попалась между двух огней и получила на чужом пиру – похмелье!... Прошу также заметить дальнейшие показания Е. П. Блаватской, – насчёт прощаний в Вюрцбурге, и принять во внимание, что лгать сестра моя не могла, если б и хотела, ибо этим фактам были другие свидетели, единодушно мне подтвердившие то, что она писала).
«Прощались мы с ним, как родные, чуть не с горькими слезами... Ни слова, кроме клятв заступаться за меня в России (sic!), во всём помогать – я не слыхала. А теперь вдруг взял, да и замолчал! Ни с того, ни с сего на него уж в Питере нашла полоса... Ты не знаешь, в невинности души своей, а я знаю: просто перепугался он брани Психического Общества!.. Вишь ты, о Gentilhomme’e de la Chambre[53] отозвалось оно, что он или лгал или галлюцинациями страдает... А вот прочти прилагаемое письмо его ко мне, только что написанное пред отъездом его из Парижа. “Я уверен, что сбудется! Не играли же вы мной, как пешкой”, – пишет... Он, видно, просто разозлился, что ожидаемое им ещё не случилось, вот и наше предлог: “противохристианство”!.. Эх, Вера, Вера! Умный ты человек, а позволяешь себя морочить... Грех Всеволоду Сергеичу! Двойной грех: и за клевету, и за то, что не ему бросать камень в Мохини, если б что и было!.. Куда пропали все его благие намерения, как только не так скоро свершается то, чего он непременно ожидал через два-три месяца... Самое письмо его докажет тебе, что не потому он взъелся на меня, что Общество моё “противохристианское”!.. Вглядись поглубже... Что же касается моего противохристианства – ты его знаешь. Я враг католических и протестантских церковных излишеств; идеал же Христа распятого светлеет для меня с каждым днём яснее и чище, а против православной христианской церкви, – пусть повесят меня – не пойду! Так мне Россия дорога, так наболело у меня сердце за родину, за всё своё, что душу бы отдала в кабалу на десять тысяч лет за неё. Но лицемерить – не хочу. Вот тебе вся истина, – всё, что на душе накипело и наболело. А уж исстрадалась я и намучилась за эти десять лет!.. Искупила прошлые грехи добром, насколько умела, – надеюсь, что предстану с чистым листом, если приняты будут в расчёт мои муки; но... грешный человек, – хотелось бы, чтоб и здесь осудили не без апелляции!.. Не хотелось бы умирать, оставляя грязью забрызганное имя…».
Таким, из глубины наболевшей души вырывавшимся воплем, часто, в последние годы заканчивались письма Елены Петровны. Я уверена, что многие поймут, что чувство нравственного долга – обелить её память, насколько возможно, от злых и лживых нареканий недобросовестных врагов, пробуждается во мне с новой силой при чтении таких писем сестры моей и, что я должна, для неё и для себя самой, удовлетворить это справедливое желание.
Тем не менее, хотя чувства жалости к страданиям нравственным и физическим сёстры моей часто меня мучили, но ни минуты не думала я, чтоб все те стимулы, которыми всячески возбуждали наше общее, – моё и всей семьи моей негодование против неё, недоверие и предубеждение против наших с нею общих близких людей, – были бы или выдумки, или же на лету пойманные вспышки их гнева, – точно так же искусно возбуждённого (в Вюрцбурге) против меня, – как в Петербурге возбуждался мой гнев против них. А возбуждался он не для чего иного, как чтоб заставлять меня и моих проговариваться в минуты крайнего возбуждения, – и давать тем возможность увеличивать то скопление сведений, которое г. Соловьёв так картинно называет своим «багажом»...
«Г-жа Игрек была в то время в размолвке с Еленой Петровной», – обязательно уведомляет он читателей (октябрь, «Русский вестник», стр. 252).
Но не извещает их, кто создал эту размолвку? Кому нужно было её возбудить и поддерживать всякими неправдами, доходившими даже до уверений, что и сестра и другая близкая мне особа утверждали, что я утаила деньги нашего умершего отца[54]... В оправдание своего тогдашнего безумия скажу одно: я была так хорошо подготовлена, что даже не сообразила, что ни сестра и никто из близких не могли сказать этого, ибо знали, что отец мой умер, живя вдали от меня, с другими детьми своими в Ставрополе, за тысячу вёрст от Тифлиса, где я проживала безвыездно.
И вот тогда-то, когда я дошла до полубезумия, а дети мои до крайней степени ярости за меня, – тщательно принималось к сведению и записывалось всё, что могло сорваться с языков наших в самом крайнем, преувеличенном раздражением смысле. К такого рода «багажу» г. Соловьёва принадлежат и те мои письма, которые он ныне напечатал под прозрачным покровом данного ему мне прозвища, – буквы «Y». Мало того, что все наши проговоры записывались, но они тут же передавались à qui de droit[55], – так точно, как нам было передано, с самым хладнокровным расчётом нас раздражить против Е[лены] П[етровны], всё, о чём говорилось и не говорилось в Вюрцбурге. Вот отрывок из письма сестры, прямо это указывающий, от 28 марта 1886 г. В начале его она истощает всё своё красноречие, чтоб поправить дурное действие на меня наговоров на близких нам людей, чтоб нас примирить, убеждая не ставить друг другу в вину сердитых речей и писем.
«Грешно, Вера, – говорит она, – а для меня просто ужасно!.. Ведь надо же правду сказать: на тебя там рассердились по моей вине! Я глупость сделала. Огорчившись и рассердившись на тебя, я отослала туда письмо ко мне Соловьёва, которое он начинает самым таинственным образом: “После того, что было, нам разговаривать с вами более не о чем!” – и кончает всевозможными намёками на вещи двадцати и тридцатилетней давности... Ведь где же он мог всё это слышать?.. Положим, в Петербурге есть люди, которые знают; могли сказать ему – но не в таких подробностях, Вера! Я не сержусь на тебя, – я понимаю и твоё раздражение; но она ведь мне больше, чем родная, – она друг всей моей жизни, и возмутилась за меня, узнав, что все эти кошмары моей молодости, которыми я измучилась сама, теперь стали достоянием салона m-me де Морсье, а почерпнуты были Соловьёвым у тебя в доме!.. Нечего греха таить: ни Куломбы, ни психисты, – никто не сделал мне столько вреда, как эти сплетни Соловьёва!.. Пятнадцать лет я неустанно работала на пользу людям; делала добро, кому и чем могла; старалась поступками замолить грехи. Скольких спасла и женщин, и мужчин от разврата, пьянства, всяких грехов, обращая их к вере в бессмертие, в духовную сторону бытия; а теперь сама стою забрызганная – какое! покрытая густым слоем грязи и через кого?.. Соловьёв, он, он – с его тяжким грехом на душе, – он первый бросает в меня камень[56]!.. Ты говоришь: «опрометчивость». Хороша опрометчивость! Он убил меня, продал как Иуда, потому что “on hait toujous ceux à qui l’on fait du mal sans raison”[57], – других причин ненависти ко мне у него нет!.. Насплетничал, погубил и возненавидел ещё больше!».
Да, – вот как воспользовался г. Соловьёва нашим доверием в минуты, им же возбуждённого, раздражения против сестры моей. Всё это было бы навек погребено, – если б он сам не захотел меня принудить повиниться самой и поневоле отдать на суд русских людей не себя одну, а все его действия, происки и фальшь.
Если меня, женщину несравненно более хладнокровную, чем была сестра моя, искусные манёвры его могли доводить до забвения разума, – что ж удивительного, что она, – всю жизнь отличавшаяся искренностью и безумной вспыльчивостью, – писала ему сумасшедшие письма?.. В письме, им приведённом в главе XXII, я узнаю её горячность, доходившую, в минуты возбуждения, до безумия. Я узнаю её... Но, вместе с тем, – я узнаю и письмо это... Это то самое письмо, которое наделало в Париже столько шума и отвратило от Блаватской многих теософов, как пылкая m-me Морсье, поверивших его французскому переводу, которого мне ни г. Соловьёв и никто никогда не показывал[58], но смысл которого мне был передан многими его читавшими, когда я, следующим летом, была у сестры. Главный пункт этого перевода, говорили мне (прошу заметить, что я не утверждаю полной истины этих показаний, ибо, повторяю – никто не захотел показать мне французского письма) – состоял в том, что «Блаватская в нём отрицала Махатм и сознавалась, что выдумала их существование».
Вот, что, главнейшим образом, возмутило парижан против Е. П. Блаватской; но, как видят читатели, этого в её письме – в русских письмах её – нет. Откуда взялось оно во французском переводе, – да ещё засвидетельствованном?.. «Тайна великая», – лежащая между г. Соловьёвым и г-жей Морсье...
Я ещё возвращусь к этому эпизоду, когда буду говорить о ноябрьском № «Русского вестника»; теперь же место привести последнее, – действительно последнее письмо г. Соловьёва сестре моей. Оно писано в ответ на приведённое им на страниц. 255-й – 259-й «Русск. вестника» за октябрь.
«Елена Петровна! Вы слишком умная женщина, чтобы предаваться ярому безумию, в котором Вы написали Ваше вчерашнее письмо, озаглавленное “исповедь”. Если б я действительно был Ваш личный враг, то теперь с торжеством ожидал бы Вашего явления в Париже (?!) и Лондоне (?!?) и хладнокровно присутствовал бы при Вашей погибели (!?!), которая мне-то уж повредить не может никоим образом, ибо во всё время моего знакомства с вами я поступал сознательно. Каждый мой шаг относительно Вас, каждое моё слово, сказанное Вам мною или написанное, прямо указывает на мою цель (?!), в которой для меня, как для русского человека и христианина'', нет бесчестия!».
(До последней фразы, подчёркнутой мною, все курсивы самого г. Соловьёва).
«Цели этой, как Вам известно, я достиг, – недаром сидел в вонючем Вюрцбурге 6 недель! – Неужели Вы в самом деле думаете, что меня можно застращать нахальной клеветою и ложью и что у меня не подготовлено для Вас, на всякий случай, – ибо я всегда всего ждал от Вас, – изрядное количество всяких сюрпризов (?!?). Это вот Вы только сами себе злейший враг и не знаете, что делаете и к чему стремитесь; – я же отлично знаю, что делаю и что будет, хоть меня и не наущают Ваши Махатмы... Ведь у меня голова холодная, как Вы сами сказали; ну, а у Вас – горяча до непостижимости и, когда горит, Вы ровно ничего не видите (sic). Скандала Вам угодно? Мало их у вас было! Ну что ж, – пожалуйте, милости просим! А засим к делу. В истории Мохини с мисс Л., – которая от него беременна (это показание оказалось ложью, – если не предположить, что она и поныне, восемь лет, беременна! В. Ж.), я не принимал никакого участия, – это не по моей части. Я был всё время в России...».
(Здесь я опять должна прервать это замечательное послание, чтоб напомнить читателям его же, г. Соловьёва, письмо, где он извещает сестру мою, что просьба её, не распространять сплетен, пришла «слишком поздно». Он действительно был в России, когда разыгрались последствия этих сплетен, но из творцов их, бесспорно, он один из главных).
«…Я знал эту историю по письмам m-me де-Морсье. Затем мисс Л. обратилась к моей чести, прося сказать правду о распечатании её письма Вами. Я должен был сказать правду и сказал, и уж конечно ничего не перепутал[59].– Факт их связи доказан и не подлежит никакому сомнению. Все документы в руках адвокатов. От Вас желают только одного, – чтобы Вы написали этой мисс: “Будучи уверенной в честности Мохини и не имея в руках никаких доказательств противного, я дурно о Вас отзывалась. Если Мохини обманул меня и поступил бесчестно, – прошу Вас извинить меня и, в таком случае, конечно, я считаю своим прямым долгом взять назад все свои, против Вас, обвинения”. – Вот и всё. В этом нет ровно ничего для Вас унизительного, – напротив, написать такое письмо – это достойно! Это прямой долг, если Вы себя уважаете!.. Напишете – и скандал избегнут, и Вы мирно возвращаетесь к Вашим литературным трудам, которым я, ей Богу, искренно желаю всякого успеха, пока они не сходят с литературной почвы (?!). Больше мне нечего сказать Вам. Я Вам вовсе, вовсе не враг, я желаю вам всего лучшего, а главное – спокойствия вдали от всех этих треволнений. Если же Вы уподобляете себя кабану и желаете кусаться – пожалуйте! – капканы готовы''. Извините этот тон – он Ваш, а не мой.
Вот каково было прощальное письмо г. Соловьёва сестре моей.
Видно, плохи были столь усердно устраивавшиеся ей бывшим «до гроба преданным другом» капканы; ибо сестра моя несколько раз была в Париже, где её всегда встречали с почётом, принимали радостно и провожали с печалью многие преданные и поныне памяти её друзья; в Лондоне же она жила последние пять лет своей жизни, окружённая полным уважением, почётом и даже восторженным поклонением многих, несравненно выше стоящих по уму и знаниям людей, чем некоторые её «обличители». Собственно сознание этих фактов и раздражило их болезненное самолюбие до забвения всяких приличий и всякого разума, в озлобленных на неё показаниях. Кроме г. Соловьёва есть такие двое-трое неумеренные врага Блаватской и за границей... И именно из тех, которые, как и он, воображали, что крайне нужны Обществу и что никакой «Учитель» не может находить, что они для него бесполезны; словом те, которые рассчитывали в нём играть крупную роль и – ошиблись в расчётах!
Итак, несмотря на утверждение г. Соловьёва (стр. 261), что он с m-me Морсье «хорошо поняли, что ждать появления Блаватской в Париже или Лондоне – нечего», – факты доказали, что они в этом ошиблись, так же, как ошибались в очень многом другом. Как, например, ошибся он, утверждая, что Баваджи (индус, намекнувши ему о блаженстве «врущих») боялся смертельно «бившей его» Блаватской, не смел сказать слова ей наперекор; а между тем, Баваджи, как только распространилась клевета на Блаватскую, будто она «отрекается от Махатм» – до того озлился, что тотчас ушёл от неё и перешёл даже, временно, в лагерь её противников.
XII
Зимой, вскоре после отъезда г. Соловьёва в Россию, сестра моя снова очень сильно заболела; жившая с нею в Вюрцбурге графиня Констанция Вахтмейстр писала мне об отчаянных отзывах докторов и передавала просьбы её, чтобы я приехала повидаться, вероятно, проститься с нею. Несмотря на все наговоры, которым я тогда верила (кроме собственно теософических дел, одновременно возникли семейные пени, сплетни и неприятности – всё из того же источника), я бы тотчас к ней поехала; но я сама почти всю зиму была в постели, а, поднявшись после жестоких бронхита, плеврита и пр. удовольствий, я не могла несколько месяцев отделаться от жестокого кашля. Но я писала, что весной или летом приеду непременно; так что г. Соловьёв совсем напрасно заставляет меня (на стр. 282) делать глупое и лживое показание, будто бы я ехала к сестре только для того, – чтобы отстаивать его интересы... Это было бы оригинально!
Надо здесь заметить, что когда, в январе, приехала нынешняя супруга г. Соловьёва, то он умолил меня принять её на несколько дней к себе, так как ей негде было в Петербурге остановиться: никто из родных (не исключая и матери её), а тем более, никто из знакомых, почему-то, не пожелали её приютить, а поселиться в отеле она не могла по неимении документов. Симпатизируя им обоим и совершенно доверяя показаниям их, я охотно оказала им эту дружескую услугу. Я благословила их, когда они ехали венчаться[60] из моего дома и, разумеется, это ещё более скрепило, по-видимому, узы нашей приязни, так что по отъезде их после свадьбы, переписка между ними и семьёй моей продолжалась ещё дружественнее....
Тут разыгралась совсем неожиданная история, которую я уяснила себе лишь впоследствии. Вот что произошло.
Когда проект г. Соловьёва отторгнуть Е. П. Блаватскую от Теософическаго Общества, превратить её деятельность в дело заурядного писательства, помощью запугиванья процессом мисс Л., потерпел фиаско; когда он убедился, что сестра моя не станет писать «отречения от своих слов», – от обвинений этой интриганки, очернившей человека, которого сама же преследовала своими объяснениями в любви, и, – главное, – когда он окончательно уверился, что ничего не дождётся от милостей Махатм, тогда только, в феврале 1886 г., он действительно отвернулся от Теософическаго Общества и его основательницы. Первое, чем выразилось его новое отношение к ней и её делу, было распространение между парижскими теософами убеждения, что она сама отрицает существование Махатм, сознавшись, что они – её вымысел.
Услышав об этом, мы были поражены донельзя!.. Зная, как тяготилась сестра моя просьбами г. Соловьёва касательно помощи Махатм в том, что они, вероятно, признавали невозможным (в чём – я, не имея явных, улик, умалчиваю!), я подумала, что она прибегла к такому неожиданному пассажу, чтоб только он её оставил в покое. Моё подозрение разделяли многие, знавшие обстоятельства их знакомства и надежд, которые он возлагал, вначале, на её дружеское расположение. Я написала сестре, как же она «рискнула такой откровенностью, не связав его обещанием сохранить признание её в тайне» (прошу принять во внимание, что я тогда сама не совсем верила в действительность Махатм)?
Сестра мне отвечала отчаянным письмом, где высказывала полное недоумение, уверяя, что никогда не могла ничего подобного написать. Но я не поверила, предположив, что, в припадки вспыльчивости, она сама на себя взвела небылицу, а после забыла. Так бывало не раз: под влиянием временного возбуждения, она, иногда, сама на себя клепала в прошлом, лишь бы избегнуть настоящего затруднения; близкие ей знали всегда в ней эту черту легкомыслия и неосмотрительности, происходивших от нетерпения, и упрекали её не раз за такое безрассудство.
Но чего я никак не могла себе объяснить, это было: как мог Всеволод Сергеич так неосмотрительно предать её к нему частные письма – гласности?!.
Зная, что он скоро должен был опять приехать в Петербург, сестра умоляла меня побывать у него, прочесть русское письмо её; что я и сделала, как только они возвратились. Это было нетрудно, так как в ожидании найма дачи, его супруга вновь на несколько дней поселилась у меня в Петергофе.
Прочитав это громадное послание, написанное, очевидно, в каком-то горячечном бреду, я изумилась и прямо высказала г. Соловьёву своё недоумение: никакого «признания в измышлении ею Махатм» в письме не было. С чего же сыр-бор загорелся?.. Откуда парижане выдумали это?.. г. Соловьёв отвечал, что сам он не понимает, с чего они это выдумали!.. Меня также поразило, зачем всё русское письмо испещрено печатями m-r Jules Baissac’а; г. Соловьёв объяснил, что это для пущей верности, – как доказательство, что перевод верен. Я спросила: «А где же перевод? Дайте взглянуть!». Но перевода или копии с него у г. Соловьёва не оказалось; он объявил, что он у m-me de Morsier, в Париже. Оставалось предположить, что в перевод вкралась какая-либо ошибка, что я и заявила, очень прося, г. Соловьёва дать мне хоть копию, если не самое русское письмо сестры, чтоб я могла убедить всех, что в нём нет никакого «сознания в преступности», а есть только бред выведенной из себя несправедливостью и огорчениями женщины. Он, как и сам заявляет, – не согласился на это справедливое требование... Почему?.. Его дело!
Едва я приехала в Эльберфельд и услышала рассказы тех, кто читал перевод письма этого, я предположила, что дело было так: вероятно, весь параграф, начинающейся фразой (стр. 259): «Я скажу и опубликую в “The Times”, что “хозяин” (Мория) и Махатма К. X. (Кут Хуми) – плоды моего воображения», и пр. должны быть переведены в утвердительном смысле, вместо условного, – в котором они мне запомнились[61]; но теперь, увидав это письмо в печати, думаю, что дело «отрицания Махатм» было исполнено ещё легче: просто переведены все последующие фразы русского письма, без начального, основного предложения: опущены (вероятно) слова: «Я даже ''пойду на ложь'', – на величайшую ложь, которой оттого и поверят всего легче». Если эта фраза пропущена – весь истинный смысл всего далее выраженного теряется и, действительно, является достоверное, убедительное признание в фальши, обмане и «измышлении» Махатм.
Сознаю, что это обвинение капитальное и потому, даже после всех подтасовок автора «Современной жрицы Изиды», несомненно мною доказанных, я заявляю его не утвердительно (как он чуть не на каждой странице своего произведения то делает, прямо укоряя меня в несуществующих лжах), а выражаю, как предположение, на которое вот мои права: 1) Если б в переводе всё было верно, г. Соловьёв не имел бы причин отказать мне в копии русского письма. 2) Он прислал бы эту копию, без сомнения, когда теософы её требовали из Эльберфельда и Парижа, для восстановления его собственной правоты, в доказательство того, что он верно перевёл письмо Блаватской. 3) Перевод, в его настоящем смысле, никак не мог бы породить убеждения m-me Morsier и др. в том, что «m-me Blavatsky a renié les Mahatmas[62]!» как они убеждены и по сю пору. 4) г. Соловьёв не без намерения умалчивает совершенно об этом необъяснимом инциденте, – главнейшей побудительной причине моей поездки в Эльберфельд. Не мог же он забыть, что я ехала, чтоб удостоверить всех, что в письме сестры моей не было «признания, что она сочинила Махатм»... Почему же он об этом факте не упоминает ни словом в своей статье?!.. И, наконец, 5) потому, что я не могла даже теперь, через восемь лет, будучи в Париже, добиться взгляда на этот пресловутый перевод...
Это, кажется, причины увесистые.
г. Соловьёв уверенно заявляет, что перевод хранится у г-жи де Морсье, в Париже (стр. 284) – и что она его готова показать всякому желающему сличить письмо с переводом, – но это неправда, и вот тому доказательство.
Прошлым летом я была лично у Бессака и просила его сказать мне: свидетельствовал ли он письмо сестры моей, в 1886 году писанное, и перевод с него; а равно и показать мне французский текст, дабы я, наконец, могла понять, в чём дело, – за что m-me де Морсье вооружилась на сестру и заварила всю кашу?
На первый вопрос он ответил, что как тогда, так и теперь не понимает, из-за чего всполошились парижские теософы, потому что в русском письме сестры моей не было ничего, для неё компрометантного, а также и в засвидетельствованном переводе, хотя он нашёл в нём первоначально неточности, но настоял, чтоб они были исправлены; на вторую просьбу обещал непременно достать перевод и показать мне его. Но я напрасно прождала недели три и, наконец, получила нижеследующее уведомление.
«Madame, я бы желал, прежде чем вам ответить, сам просмотреть перевод, по поводу которого вы меня спрашивали. Этот перевод не находится в руках m-me de Morsier, а потому я и не мог с ним справиться. Не могу утверждать, чтоб я о нём сохранил верное воспоминание, но могу удостоверить, что нашёл его сходным с русским подлинником. Прибавлю к этому, что, насколько мне помнится ни в переводе, ни в подлиннике не было ничего, что могло бы возбудить недоверие к г-же Блаватской. Единственная не совсем ясная (un peu louche[63]) фраза вполне могла быть объяснена в смысле условном, и так я её и понял; я предпочёл бы этот смысл, как самый вероятный и справедливый[64].
Примите уверение и пр.
Это письмо уж было совсем не то, что этот почтенный, но весьма расслабленный годами старик говорил мне; устно, при свидетелях, – восторгаясь моей сестрой, предлагая дать мне прочесть брошюру, им написанную о теософическом учении, которая мне докажет, как высоко он ценит m-me Blavatsky, и тому подобные лестные вещи. Влияние его дорогого друга, m-me Морсье, в нём очевидно сказалось; но главное дело ясно: перевода мне показать не хотели, и поверенная г. Соловьёва отозвалась неимением.
Где же он?
«Теософическое мщение» г-жи Блаватской, о котором с таким пафосом рассказывает г. Соловьёв, ограничивалось негодованием, из-за которого она болела. Что касается тех двоих людей из нашего посольства, которые весьма нелестно отзывались о г. Соловьёве (не одной герцогине Помар), то я их знаю... Ему дивиться их невыгодному мнению нечего (стр. 270), ибо один из них сторонник его первой жены, а второй – друг и большой поклонник его брата, Владимира Сергеича.
О разговорах со мной, опять пространно приводимых в главе XXIV, ничего говорить не буду, кроме того, что нелепость их выдумки очевидна. Как я ни старалась оправдывать г. Соловьёва и поддержать в себе веру в его прямодушие и честность, веру – с которой стыдно и больно мне было расставаться, но, едучи к опасно больной сестре даже с задачей уладить между ними недоразумения, я никак не могла его уверять, что еду «единственно (?!) для того, чтоб выгородить его и ему одному доказывать свою дружбу»... О! самомнение г. Соловьёва часто его вводит впросак! Неужели он не чувствует, что такие фразы, которые он мне приписывает на стр. 282 («я дрожу за вас»! и т. п.) – его самого делают смешным?..
Вообще, г. Соловьёв чересчур многоглагольные «сочиняет» разговоры! Он столько глупых и злых речей заставляет меня говорить, что только можно удивляться, как бесцеремонно он обращается с чужими чувствами и словами. Видно, что нарекания и выдумки ему ни почём!.. Дело, верно, обычное...
А вот я могла бы, не выдумывая, напомнить ему отзывы его о чрезвычайно близких ему людях... Лживые отзывы, верней, – обвинения, писанные им совершенно хладнокровно. Но я великодушнее г. Соловьёва и не назову их, и не расскажу никому того, что он писал о них. Да будет ему моё великодушие в устыжение!
Гебхард был совершенно прав, уверяя, будто Е[лена] П[етровна] утверждала, что перевод её письма г. Соловьёвым неверен (стр. 287). Он мог бы ещё прибавить, что это и я утверждаю. Иначе г. Соловьёв не боялся бы прислать копии с него, да и парижане не составили бы о нём фальшивого мнения. Что он ссылался и ссылается на документы, хранящиеся у Морсье, «его искреннего друга» (стр. 288), друга, (которого он, тем не менее, вначале очень порочил) так ведь это один отвод глаз, – как свидетельствует письмо Бессака. «Ловкой дамой» меня г. Соловьёв (стр. 289) называет напрасно за то, что я, говоря о нём с Гебхардом, всячески старалась его оправдать, медля поверить его неправде; ему бы скорее простительно было меня назвать «недалёкой и наивной дамой», – за то, что я так ему доверяла. А я действительно так глупо убеждена была в его добросовестности, что, когда теософы громко заговорили о фальсификации перевода, о подделке (un faux), я в негодовании воскликнула, что «скорее поверю, что Вс. С.Соловьёв сошёл с ума и совершил бессознательный поступок, чем такую ужасную вещь».
Очень напрасно он рассказывает о нашем мрачном «комплоте»[65], о каком-то коварном заговоре моем и сестры моей, – выдавать его за сумасшедшего. Разумеется, читателям «Р. вестника», которым г. Соловьёв не рассказал ничего о знаменитом обвинении Блаватской в отречении от Махатм и сознании в том, что она их измыслила, совершенно непонятно, почему Гебхард писал, что мы его назвали «сумасшедшим», а не другим именем; но в этом наименовании одна я виновата.
Когда г. Соловьёв запрошлою зимою требовал свидания со мной, мотивируя нашему общему знакомому, А.А.Б-ву, своё желание меня видеть, дабы объясниться о некоторых наших личных счетах, а именно, что я в Эльберфельде объявила его сумасшедшим[66], я вот что писала и что теперь повторю в своё оправдание.
«Многоуважаемый А. А.
На вопросы, которые поручил вам сделать мне г. Соловьёв, отвечу вам, по пунктам, которые прошу ему сообщить. О каком уговоре он говорит – решительно не знаю! Никогда не могла я с ним (почему с ним?!) уговариваться, после смерти сестры, не передавать России того, что о ней говорят за границей или своих личных о ней воспоминаний. Такой уговор не имеет никакого raison d’etre[67], и его никогда не было.
Распространять (как он говорит) в России теософии я никогда не возьмусь, что мною, всем, что я писала о ней, свидетельствуется везде ясно и категорично. Я даже обыкновенно начинаю свои статьи с того, что отрицаю всякий смысл её водворения в России, – “где прочны идеалы христианства и крепки устои православия”... Всякому, читавшему статьи мои в “Новостях” и в “Обозрении”, моё равнодушие к преуспеянию доктрин теософии не может не быть очевидно. Значит, фраза г. Соловьёва о том, что он должен (почему именно он?) ревностно поддерживать устои православия, – заботясь о нём больше других и меня в том числе, – есть только предлог и более ничего[68]. Я, с своей стороны, ставлю православное христианство так высоко, что думаю, что никакая теософия ему собственно не нужна и его не коснётся, хотя я безусловно признаю, что её чистое и нравственное духовно-отвлечённое учение для расшатанных безверием западников – спасительно!.. Множество английских изданий, в России мало кому доступных, меня в этом убедили.
Моё участие в эпизоде знакомства г. Соловьёва с сестрой моей ограничивалось тем, что я – как ему известно, – из кожи лезла, стараясь объяснить то, что тогда мне казалось недоразумением, и примирить их. Когда я прочла письмо Елены к нему – письмо, на переводе которого им было построено обвинение её в Париже, – я ему тогда же сказала, что «не вижу в нём тех признаний в обманах, о которых кричат отступившиеся от неё парижане». Я просила его доверить мне это письмо для сличения его с переводом, но он мне его не дал.
По приезде в Эльберфельд, я убедилась, что перевод не может быть точен, – что-то, о чём сестра писала в виде предположения, в переводе передано утвердительно. Вопрошённый на счета этого Бессак, переводчик при парижском суде, отозвался, что всего письма не читал, а только приложил печати к одному параграфу, – так нам передал его ответ Г.Г.Гебхард (письмо его у меня цело). Тогда я и дочь моя, В.В.Джонстон, настоятельно просили Всеволода Сергеича прислать нотариально засвидетельствованную копию с письма Е. П. Блаватской, – но он упорно отказал и в этом.
Это странное упорство лишило меня возможности оправдать г. Соловьёва, – доказав, что всё дело в недосмотре, в ошибке переводчика, а всех поголовно защитников сестры моей заставило предположить самое худшее... Он меня поставил этим в безвыходное положение и в необходимость признать его виновным не в одном легкомыслии, как я до тех пор думала.
Не помню, чтобы я «объявляла» г. Соловьёва сумасшедшим; но думаю, что он не мог бы оскорбиться, если б я, в порыве смущения и негодования, вместо того, чтоб прямо обвинять его в том ужасе, в котором его обвиняли все (узнав, что в русском письме сестра отнюдь не отрицается от Махатм), – и воскликнула, что он с ума сошёл, так действуя... Сумасшествие – Богом посылаемый недуг, – несчастие, а не позор, тогда как подлог, в котором обвиняли и обвиняют его, разбиравшие это дело – обвинение постыдное.
Вот всё моё участие в этом печальном деле.
Пока я была у сестры, не было ужаса, которым г. Соловьёв (живя в Петергофе, где жила и моя семья) не запугивал бы меньших детей моих, стараясь внушить им, полное отвращение к их тётке и настаивать, чтоб мы, с Верой, скорее вернулись. Все их письма ко мне переполнены страхом за нас, – за погибель наших душ и за всякие кары небесные, которые, по уверениям г. Соловьёва, должны были пасть на нас, за участие к сестре моей и старание её успокоить. Всё это записано в дневнике моей второй дочери, которая, веря ещё г. Соловьёву, пережила истинную пытку, пока мы отсутствовали. Когда же истинное участие г. Соловьёва во всех печалях моей сестры и наших выяснилось, и мы возвратились в Россию, то наше знакомство с ним, понятно, прекратилось.
Обо всех этих обстоятельствах я ни словом не упомянула в печати; неужели, в благодарность за мою скромность, г. Соловьёв найдёт возможным мне ответить, припутав моё имя в свои перипетии и разочарования в Теософическом Обществе?!. Как вы думаете, А. А-ч, – совместимо ли это будет с азбукой добропорядочности?.. Как бы сам г. Соловьёв ни смотрел на мою сестру, но он должен, конечно, понимать, что теперь, больше чем когда-нибудь, оскорбление ей, – тяжкое оскорбление мне. Пусть знает он, что за умершую сестру я восстану решительней, чем за живую, если он принудит меня вступиться за её память.
На это я получила ответ г. Б-ва, в котором он меня уведомлял, что сделал всё, что мог, чтобы отвратить Соловьёва от его враждебных намерений, – в чём я и не сомневалась, но что он ему ответил, что не боится меня, ибо никаких доказательств оправдательных я не имею, – кроме его писем о частных делах, которые не касаются фактов, подлежащих его обличениям.
Он, вероятно, не знал, что в моих руках некоторые письма его к сестре моей, и забыл, что и в тех, которые он мне писал, не все одни его частные дела. Он впрочем, предлагал мне ценой возвращения его переписки с моей семьёй откупиться от его личных на меня нападок; но я сама от выкупа отказалась...
XIII
Мне остаётся теперь сказать ещё немного. Необходимо лишь ответить г. Соловьёву на два замечания его относительно двух лиц – их собственными ему ответами. Но прежде да позволено мне будет заявить, – n’en déplaise[69] г. Соловьёву и родственникам А.М.Бутлерова, утверждающим противное, – что я видела письмо и портрет покойного профессора в руках моей сестры. Что же касается факта, о письме её из Остенде, в котором она, одновременно с газетами извещала нас о смерти его, – оно у меня цело; и, кроме того, я многим тогда же говорила об этом доказательстве её духовидения и показывала это письмо... Не постигаю, почему г. Соловьёв, сам, будучи таким присяжным духовидцем, не хочет допустить возможности этого свойства у других?
Теперь перейдём к свидетельствам самих лиц, на которых г. Соловьёв ссылается... не верно.
На стр. 285-й ноябрьского «Русск. вестника» он говорит:
«Через несколько месяцев я узнал, что этот самый Гебхард разочаровался в Е. П. Блаватской».
Прочитав этот параграф, я его перевела и отослала в Берлин к Г.Гебхарду, с которым наши добрые отношения никогда не прекращались, и вот что получила в ответ.
(Не желая растягивать статьи, я все английские и французские письма перевожу несколько вкратце, сохраняя в целости оригиналы).
«Дорогая m-me Jelihovsky!
В ответ на ваше доброе письмо, я приношу вам мою искреннюю благодарность за то, что вы даёте себе труд отвечать на бредни человека, подобного этому – Соловьёву. Я бы вам усиленно советовал оставить в стороне всё, что такой безумец (halluciné) говорил или будет говорить. Я никогда не писал иначе г-же де Мерсье, как в видах интересов вашей оплакиваемой нами сестры. Если она отдала мои письма, под влиянием гипнотического состояния, в котором тоже почти всегда находится, Соловьёву, это очень с её стороны недобросовестно.
Что касается чувств моих к Н.Р.В., я лишь могу вам сказать, что глубокое почитание (vcnération), которое я всегда испытывал к сестре вашей, перешло на память о ней и живо по-прежнему. Я никогда не принадлежал к великому числу тех, которые, подобно Морсье и Соловьёву, преклоняли колена пред Е. П. Блаватской, обращаясь с ней, как с богиней, целуя её туфлю, и которые ныне, когда эта великая женщина обратилась в прах, – оскорбляют её память клеветами. Что до меня, повторяю: я имел всегда и сохраняю в отношении нашего глубоко оплакиваемого друга чувства глубокой привязанности, симпатии, дружбы и благодарности. Я всегда буду её считать одним из высочайших умов, порождённых нашим веком.
Вот, дорогая г-жа Желиховская, мои искренние мысли, которые я сам не способен изложить в печатной статье, потому что нахожусь в состоянии крайнего горя[70]… Благоволите извлечь из этого письма, что вам угодно, в ответ этому недобросовестному человеку[71].
Примите мой почтительный привет и поклон.
Это письмо, как я его ни смягчала, написано так резко, что я и не ожидала подобного ответа от хладнокровного, всегда спокойного старика, каким остался в моей памяти этот эльберфельдский миллионер. Но вот ещё один ответ г. Соловьёву, от затронутого им очень сильно лица.
В конце XXIII главы автор сенсационной сатиры на Е. П. Блаватскую с глубоким негодованием и с иронией, которая должна была бы убить меня, – если б не насмешила! – предаёт меня суду и осуждение людскому за неверный перевод (с больной головы – на здоровую?!) статей г-жи Купер-Оукли о покойной сестре моей.
«На статьи г-жи Желиховской (презрительно отзывается он на стр. 275), как уже достаточно доказано (?!), рискованно опираться...». И далее снисходит до мнения, что «всё же» трудно предположить, чтоб я всё в них сама сочинила... Я очень благодарна г. Соловьёву за такое присуждение мне хотя бы самой маленькой дозы правды, но очень сожалею, что никак не могу ответить ему такой же любезностью: в его рассказе о г-же Купер-Оукли нет ни йоты правды!
В этом не я, – она сама его уличает.
Надо знать, что эта женщина одна из самых горячих последовательниц и друзей моей сестры; до последней минуты она её не покидала, – так же, как и сестра её, мисс Лора Купер.
Когда она услышала, что г. Соловьёв затронул и её в своих «воспоминаниях», то сейчас же написала мне нижеследующее письмо; когда же ей было переведено всё, что он о ней поведал русской публике, она немедленно добавила к нему обстоятельное опровержение всего, что он о ней рассказал. Это опровержение так пространно, что мне придётся из него воспользоваться только самыми существенными отрывками. Для начала вот письмо.
«Дорогая, m-me Jelihovsky, будьте, прошу вас, так добры, – опровергните какие бы то ни было показания обо мне г. Соловьёва. Я всего раз его встретила в доме m-me де Морсье, где я была с доктором Китли и его братом. Я с ним не имела никаких разговоров, а потому какие бы то ни было мои речи, им напечатанные, должны быть фальшивы.
Он в то время занимался составлением самых диких и лживых обвинений на m-me Blavatsky; но, хотя всё, что он о ней говорил, не сделало на меня или братьев Китли никакого впечатления, мы вышли из дому в уверенности, что он горький и вместе недобросовестный враг вашей сестры, столь же неблагожелательный, как и неправдивый человек.
Могу присовокупить, что во время долголетней дружбы моей с г-жей Блаватской, фальшивость (falseness) показаний г. Соловьёва бывала много раз доказана. Я весьма сожалею, что вы имели столько беспокойств из-за него!..
Прошу вас поступить, как вам угодно с моим письмом и, желая Вам всего лучшего, прошу вас верить искренности вашей
Три дня спустя m-is Cooper-Oakley написала другое опровержение, на 3-х листах. В нём она говорит, что изучала «Isis Unveiled» вместе с мужем своим и увлекалась учением моей сестры, – гораздо ранее, чем Синнетт написал свою книгу. (Значит не в силу увлечения ею она искала войти в Общество, – неправда 1-я)[72].
«Находилась с m-me Blavatsky в Мадрасе по собственному желанию, – пишет она далее, – ухаживала за ней в болезни; была при ней, когда “Учитель” пришёл спасти её от смерти, и уехала бы с нею вместе в Европу, если б сама не заболела…». Этой болезнью и её рецидивом в Париже, – а вовсе не «ужасами», происходившими с нею в Адьяре, – объясняет она свою худобу и бледность, не имевшие ничего общего с теософией – (неправда 2-я).
«Заявление, что я убежала из Адьяра, – говорит г-жа Купер-Оукли, – безусловно, фальшиво (неправда 3-я). Я уехала потому, что доктора нашли это необходимым… Что же касается того, что m-me de Morsier и г. Соловьёв видели меня в слезах или каком-нибудь волнении – это ложь (it is a lie[73], – по счёту, 4-я!).
Я в то время была в дружеской переписке с m-me Блаватской и, что ещё важнее, я приехала по просьбе Синнетта и Китли, – чтоб узнать от друзей мисс Л.[74], на чём основаны её претензии? Ни m-me Морсье, ни г. Соловьёв не могут повторять моих слов, ибо я им ничего не рассказывала ни о своём муже, ни о себе? Всякий меня знающий подтвердит, что я не такая болтливая и легко волнующаяся женщина...». (Из этого следует, что рассказы на 274 стран. – неправда 5-я!).
«Статья, написанная мной в журнале “Lucifer”, – совершенно независимое заявление фактов и совершенно правдива в каждой подробности (стр. 276-277). Это выражение именно того, что я думала и тогда, когда встретилась с г. Соловьёвым у г-жи Морсье, и того, что я знала в Индии и о чём никогда не изменяла мнения (увы! неправда 6-я). Говорить о каком-то надо мною “насилии” (членов Теософическаго Общества) – со стороны г. Соловьёва положительный абсурд (неправда 7-я)!..
Г-жа Желиховская сделала верный и точный перевод моих слов (сим изобличается восьмая неправда г. Соловьёва, на двух с половиной страницах его произведения... Красноречиво!). Я могу во всякое время дать дальнейшие ответы и подробности, если понадобится...
Так заканчивает г-жа Купер-Оукли своё обстоятельное показание, от 28 дек. 1892 года.
В конце главы XXIII и серии неправд, отмеченных мною, г. Соловьёв пишет:
«Любопытно, чтò бы сделала и сказала погибшая (?!) мистрисс Оукли, если б m-me де Морсье или я встретили её с такими (курс. автора) её “воспоминаниями” в руках и спросили бы: “Чтò это значит?”».
Мрачный и строгий тон этого воззвания до того меня запугал, что я поспешила написать виновнице его гнева, и очень рада, что могла удовлетворить его «любопытству».
Теперь г. Соловьёв знает, «чтò она сделала и чтò ему сказала»!
Надеюсь, что он доволен?!
Прочитав такие ответы лиц, вскользь затронутых сатирой на сестру мою; прочитав собственные письма г. Соловьёва, – показания, данные им самим против себя самого, – неужели у кого-либо ещё может остаться капля доверия к показаниям его против умершей?..
Я, со своей стороны, считаю излишним продолжать мои опровержения, хотя я не извлекла из массы писем г. Соловьёва и десятой части находящихся в них показаний, – красноречиво характеризующих его и в других отношениях, – т. е. в сношениях его с другими лицами. Я было хотела их сжечь, – но теперь вижу, что с некоторыми людьми надо не пренебрегать хотя бы ржавым, но честно добытым, а потому – могучим оружием...
Нет!.. Я не сожгу его писем; его двухлетних дружеских писем всей моей семье. Пусть лежат. Без нужды я их не трону и первая не буду вызывать грозные для неправдивых и неискренних людей тени прошлого. Но на защиту правды, на защиту тех, кто сам себя защитить не может, – я не остановлюсь пережить тяжёлые дни, подобные только что мною пережитым ныне...
Старые письма умерших, любимых людей – перечитывать тяжко; но ещё тяжелей углубляться в старую переписку с людьми, когда-то близкими, с людьми, которых правде и дружбе верили – и которые не только изменили вашему доверию, но незаслуженно, жестоко над вами насмеялись... Да не взыщет на них Господь Бог! Вот всё что я, слава Богу, могу искренно пожелать им. Надеюсь, что это желание не всеми сочтётся за лицемерие, хотя бы по следующим двум причинам: как тщательно ни старался г. Соловьёв очернить меня перед русскими людьми, я уповаю, что ему это не особенно удалось. Что же касается до личности моей сестры, то она так неизмеримо выше его несостоятельных нападок, что все его комки грязи, в неё пущенные, вряд ли достигнут подножия того высокого пьедестала, на котором воздвигнут ей памятник в трёх частях света.
XIV
Заявив этот факт, я, разумеется, обязана подтвердить его достоверность. Для этого мне только необходимо открыть два-три журнала, из числа дюжин двух теософических органов[75], существующих на белом свете по инициативе сестры моей, и меня тотчас же обуяет такое богатство доказательств, что я только буду иметь l’embarras du choix[76].
Отсылаю тех, которые желали бы знать, какие именно и сколько числом благодарственных речей было произнесено над гробом Е. П. Блаватской и в годовщину её смерти и сколько в память её написано статей, – хотя бы к одному, самому доступному из всех этих журналов, – к «Люциферу». Мне же немыслимо даже их перечислить по названиям или именам говоривших или писавших их лиц, – такое их множество. Я могу лишь выбрать два-три отрывка из этих речей и статей, именно таких, которые выражают не личные чувства к ней и отношения, а повторяются чаще других, во всех вообще о ней воспоминаниях. Они дадут незнающим действительных заслуг Е. П. Блаватской и сочинений её приблизительное понятие о них; они, хоть отчасти, объяснят её соотечественникам причину тех необыкновенных чествований памяти её в Западной Европе, в Америке и Азии, о которых я расскажу ниже.
Вот несколько выдержек из статьи человека, находившегося при ней последние шесть-семь лет её жизни, которого она отослала «работать» в Индию за несколько месяцев до своей кончины, который ныне состоит одним из главных там деятелей и помощников президента, отдав всю свою жизнь и всё состояние в дело Теософического Общества, – м-ра Бертрама Китли. Он тоже один из многих осмеянных г. Соловьёвым, – что отнюдь не мешает ему быть очень умным, образованным и – главное, – очень искренним и честным человеком.
«С того мгновения, как я впервые встретил взгляд её, – пишет он между прочим, – во мне возникло чувство полного к ней доверия, как бы к старому, испытанному другу. Это чувство никогда не ослабевало и не менялось, – разве крепло и росло по мере того, как я узнавал её ближе… Часто месяцы, даже годы спустя, по мере того как мой нравственный рост позволял мне яснее и шире понимать вещи, я, оглядываясь на своё прошлое, изумлялся, что не понимал прежде всей правоты её указаний... С течением лет долг моей благодарности ей, – её руководившей меня на добро руке, – возрос, как возрастает из горсти снега горная лавина и никогда я не смогу воздать ей за все её благодеяния…».
Тут он рассказывает, как заедали его сомнения, безверие и материализм нашего времени; как он вступал в деятельную жизнь лишь под охраной условной нравственности, шаблонного сознания чести, с некоторой дозой юной сентиментальности, готовый восторгаться пред чуждыми добродетелями, но в то же время сильно сомневаясь не только в их заслуге и необходимости, но решительно «во всём, чего не могла доказать современная наука».
«Что мне готовила жизнь? Что сталось бы со мной? – восклицает он. – Я погрузился бы в полный эгоизм, в самоуничтожение духа. От такой судьбы спасла меня Е. П. Блаватская своим учением… Она спасла меня, как спасала многих других. Прежде чем я узнал её, жизнь для меня была лишена идеала, достойного борьбы... Признание уничтожения, указываемого материализмом, – этого фатального и конечного акта бытия, – расхолаживало каждое великодушное движение горьким сознанием его бесполезности и моего бессилия... Не видел я причины и цели гнаться за трудным, – за высоким и далёким, когда всепожирающая смерть должна, безусловно, перерезать нить жизни, задолго до достижения намеченных благих целей!.. Даже смутная надежда принести пользу грядущим поколениям падала в прах при созерцании безумной бесцельности, идиотской бесполезности жизненной борьбы!..
Вот от этого-то обессиливающего нравственного паралича, который тяжким гнётом, душил мою внутреннюю жизнь и отравлял каждый час моего существования, она, – Е. П. Блаватская, – меня избавила! Меня – и других!.. Не обязаны ли мы ей более чем жизнью?..
Продолжаю. Каждый мыслящий и чувствующий человек видит себя окружённым роковыми задачами. Со всех сторон угрожающие сфинксы готовы поглощать целые расы, если они не разгадают их загадок... Мы видим, что лучшие усилия человечества приносят зло, а не пользу. Мрачная пустота объемлет нас, и где искать нам света[77]?.. Е. П. Блаватская указала нам свет этот. Она научила тех, кто желал её слушать, искать внутри себя лучи той “предвечной звезды света, что сияет на пути времён”, – а стремлением к самоусовершенствованию указала возможность их возжигать... Она заставила нас сознать, что человек, сильный духом, умеющий забывать о себе в желании помочь человечеству, в своих руках держит ключ к спасению, ибо ум и сердце того человека переполняются мудростью, проистекающей из чистой, альтруистической любви, дающей познание истинных жизненных путей.
Вот что Е. П. Блаватская принудила нас, – меня и многих, – признать за истину. Не достойна ли она благодарности?».
Эта, очень длинная, статья, кончается панегириком личной доброте сестры моей, щедрости её, великодушно и незлопамятности. Приводятся примеры и доказательства этих прекрасных свойств, в показании которых, впрочем, согласны все знавшие её. Разумеется, кроме личных врагов, обратившихся по смерти её к избитым орудиям всех псевдожрецов истины, украшающих себя одной её личиной, лишь с тем, чтоб сеять безопасно клеветы.
Я привела, как образчик мнения о покойной сестре моей близко знавших её людей, несколько фраз англичанина; а вот, для перемены, несколько показаний человека, знавшего её гораздо меньше, маркиза José Chifrè приезжавшего делегатом испанской ветви Теософическаго Общества на конвенцию Европейской секции в Лондоне вскоре после её кончины.
Говоря вообще об этой «роковой, непоправимой потере» для Общества, – его «создательницы и просветительницы», маркиз Шифре объясняет, что он считает свои личные обязательства, – глубокое почитание и беспредельную благодарность умершей, – отнюдь не единичным явлением, а потому уверен, что имеет право говорить о них, как бы выражая чувства большинства её знавших.
«…Я желал бы указать всему миру на громадное влияние, которое высокая душа её имела на меня! – говорит он («Люцифер» и др. теософич. журн. за июль и август 1891 г.). – На ту перемену, которая совершилась в моих чувствах, мыслях и понятиях о предметах духовных и материальных, – во всей моей жизни, словом, – когда я познакомился с этой удивительной женщиной. М-р Синнетт, в своей замечательной статье о ней в “The Review of Reviews” (июнь, 1891 г.), сказал совершенно верно: “Е. П. Блаватская главенствовала всегда и везде. Она должна была быть или беспредельно любима или же ненавидима! Она никогда не могла быть предметом равнодушия для тех, кто приближался к ней...”. По-моему это показание замечательно справедливо...
Когда я впервые приехал в Лондон с единственной целью увидеть и познакомиться с нею, – с “Н.Р.В.”[78], которой дарования произвели на меня глубокое впечатление, я понимал, что увижу замечательнейшую личность нашего века, как по уму, так и по обширным её знаниям. Чувство, привлекавшее меня к ней, было не простое любопытство, а всесильное, непреоборимое влечение...
Но действительность превзошла все мои ожидания!.. Её первый взгляд проник мне в душу и как бы уничижил, уничтожил во мне ту личность, какой я был дотоле... Процесс этот, непостижимый и неизъяснимый для меня самого, но совершенно реальный и неотвратимый, проявился немедленно и безостановочно свершался в глубоких тайниках моего духовно-нравственного бытия... Превращение моей индивидуальности, с прежними её склонностями и чувствами, постепенно свершилось полное... Я не буду и пытаться объяснить этот, по-видимому, поразительный факт, – исчезновения моей прежней личности, но из памяти моей он никогда не изгладится...
С каждым новым свиданием во мне увеличивались чувства доверия, привязанности и преданности ей. Ведь я ей обязан своим перерождением! Только узнав её – я познал нравственное равновесие и душевное спокойствие. Она мне дала надежду на будущее. Она внедрила в меня свои великодушные, благородные стремления. Она радикально изменила моё будничное сосуществование, подняв идеалы жизни, указав мне в ней высокую цель: стремление к задачам теософии, – к самоусовершенствованию в труде, на благо человечества...
Смерть Е. П. Блаватской – горькое испытание для меня, как и для всех работников теософистов, знавших её лично и ей обязанных бессмертным долгом благодарности.
Я, лично, потерял в ней друга и учителя, очистившего меня от жизненной скверны, возвратившего мне веру в человечество!.. В великом примере её мужества, самоотречения, бескорыстия и великодушия, я найду силы всю жизнь работать на дело, которое мы все обязаны защищать.
Да будет благословенна её память!
Дорогие братья и друзья, – вот те немногие слова, которыми я хотел высказать, что никогда не забуду, чем я ей обязан. Пусть враги и материалисты объяснят, если могут, силу влияния и власти Е. П. Блаватской; если же не могут – да умолкнут!.. Древо познаётся по плодам его, – а действия наши будут судимы и оценены, – по их результатам»[79].
Эти два свидетельства, взятые на удачу, из массы подобных им, принадлежат людям европейского происхождения и образования. Несмотря на это, я многое в них пропустила и везде старалась смягчить их восторженный тон. Что же касается до воспоминаний о Е. П. Блаватской друзей её других рас, – поклонников её учения и личных качеств, принадлежащих к восточной цивилизации, – я их не стану и касаться, из боязни, что они покажутся русским людям болезненным бредом, до того восторженны их панегирики.
Да не упрекнут меня читатели, по примеру г. Соловьёва, что я возвеличиваю сестру мою и её учение. Не я их возвеличиваю, но я хочу доказать, что на Западе и на Востоке есть множество людей, которые имеют данные смотреть на неё воистину с благоговением; а это значит, что в ней были действительные заслуги из ряда вон, даже помимо её учёности и уж, разумеется, помимо всяких «феноменов», которым лишь поверхностные, совершенно незнакомые с её учением люди могли придавать какое-либо значение.
В силу этого законного желания восстановить личность сестры моей во мнении русских, узнавших о ней только из унизительной на неё сатиры г. Соловьёва (а таких, к несчастию, не мало!), – я и написала эту последнюю главу, ей одной посвящённую.
К счастью, среди людей, воздавших ей справедливость, есть много имён, гораздо более известных миру, чем «романист» Соловьёв. На смерть её отозвались все страны, и такие люди, как Крукс, Фламмарион, Стед, Гартман, Хюббе-Шлайден, Бек, Фуллертон, Эйтон, Буканан и множество других, почтили память её иными воспоминаниями и речами.
Слова профессора Хюббе-Шлайдена я даже приведу здесь. Вот что писал он в своём журнале «Sphinx»:
«Чтò бы друг или враг ни думал об умершей, – воздавали ль бы ей божественные почести или презрение, – все должны согласиться в том, что она была одним из замечательнейших человеческих созданий, проявившихся в наш век: она была единственная в своём роде… Не приспело ещё время окончательного приговора над ней; но не можем воздержаться, чтоб не сказать, что мы, как и многие другие, сознающие то же самое, – обязаны ей и благодарим её за вдохновения, которым нет цены!.. Она из тех, о коих Шиллер сказал верно:
“Вся окруженная любовью и ненавистью парий,
В анналах мировой истории, личность её грядёт – бессмертна!”».
Много ль на свете было женщин, – не отличавшихся ни особенным происхождением, ни богатством, ни связями или покровительством сильных мира сего, – а только исключительно своими личными заслугами, по смерти коих была бы предложена такая эпитафия?.. И надо взять ещё во внимание, что предложена она не кем-либо из личных друзей Блаватской, преданных ей на жизнь и смерть, а человеком, сравнительно посторонним, очень мало её знавшим, оценившим её более по результатам её деятельности и научных трудов, нежели по симпатии.
***
На экстренной конвенции по случаю смерти основательницы Теософическаго Общества, съехавшиеся из Индии, Америки, Австралии и, разумеется, из всех почти стран западной Европы делегаты, под председательством президента-основателя, все первые заседания исключительно посвятили её памяти. В большой зале митингов в лондонской главной теософической квартире не хватало места: приходилось нанимать сторонние залы, где могли бы моститься более тысячи человек.
Тотчас же было решено открыть повсеместный подписки на капитал имени Блаватской, – «H.P.B’s Memorial Fund», – ради выполнения желания её, для которого она неустанно трудилась; а именно: на печатание сочинений по вопросам теософии, как оригинальных, так и переводных с санскритского и древнетамильского языков; сочинений, знакомство с которыми «послужит союзу между Востоком и Западом».
Потом поднялся вопрос о хранилищах для праха[80] её. Теософы Индии требовали, чтоб её прах вернули им; чтоб он, сообразно её собственному желанию, покоился в Адьяре. Но полковник Олкотт, снисходя к желаниям «братий других стран света», решил, приняв во внимание, что теософическая деятельность Е. П. Блаватской «делится на три периода: Нью-Йорк, – колыбель её; Адьяр, – её алтарь и Лондон, – её могила, предложил разделить его на три части, и предложение его было единодушно одобрено.
Тут же делегаты из Швеции просили позволить им доставить, для лондонской Главной квартиры, бронзовую урну, работы известного стокгольмского мастера Бенгстона. Полковник Олкотт заявил, что в адьярском саду будет выстроен мавзолей, для сохранения праха «возлюбленного их учителя». В Нью-Йорке же, при Главной квартире американских теософов, строится, для той же цели, великолепный мавзолей по плану лучшего из архитекторов, члена Теософическаго Общества, предложившего свои труды безвозмездно.
Урна, присланная из Швеции, великолепна. Её поставили в комнате моей сестры, которую решено сохранить навсегда в том виде, в котором она при ней находилась. Она обыкновенно заперта; в неё входят только по делу, – чтобы взять одну из книг её библиотеки или показать её помещение посетителям – теософам. 8-го мая нов. ст., в день годовщины смерти сестры моей, вся комната, в особенности «Дагоба» (урна с прахом Е. П. Блаватской), а за тем портрет её «учителя – Мории», стоящий на том же месте, как и при жизни её, сплошь были покрыты белыми цветами, розами, жасмином, но более всего лилиями, – прообразами лотосов, которых в Европе не достать.
День этот, – 8 мая, официальным постановлением, вотированным в Адьяре 17 апреля 1892 года, а утверждённым единодушно всеми теософическими центрами, решено назвать «Днём Белого Лотоса» и посвящать его ежегодно памяти основательницы Теософического Общества, стараясь знаменовать его не только речами о ней и чтениями её сочинений, но и, по возможности, благотворительными делами. Так, в саду Теософическаго квартала[81] в Лондоне в этот день были накормлены соседние нищие; в Индии же, не только в Адьяре, где все её бывшие комнаты были покрыты лотосами, но и в Бомбее и в Калькутте, кроме пищи, бедным раздавались экземпляры их священной книги Бхагавадгиты. То же самое происходило и в Нью-Йорке, и в Филадельфии и в нескольких городах Соединённых Штатов, где процветает Теософия, – а она нигде так не процветает во всех отношениях, как в Америке[82].
Но нигде печаль о смерти Е. П. Блаватской не проявлялась так демонстративно, как на остр. Цейлон.
Там, «кроме отзывов прессы, переполнившейся её именем», первосвященник Сумангала совершил торжественное о ней поминовение, и все девичьи буддийские училища были закрыты на три дня. На другой день в Коломбо был экстренный митинг теософистов, на котором решено вделать в стену залы собрания Общества бронзовую доску с именем его основательницы, числами её рождения, приезда в Индию и кончины, – на вечную о ней память. Вице-президент Восточной Коллегии, ревностный теософ, прочёл лекцию о её деятельности и учении; в особенности о заслугах её пред племенами Индии и пред буддистским миром, – ознакомлением Запада с верованиями, знаниями и литературой арийцев.
В следующее воскресенье, Теософическое Общество, в Коломбо преимущественно состоящее из буддистов, пригласило по местному обычаю 27 человек монашествующей братии принять пищу и милостыню в память усопшей; а один из монахов получил в дар одежду и все немногочисленные предметы, которыми дозволено владеть инокам: кружку для подаяний и металлический кувшин для воды, бритву, пояс т. п. Кроме того, несколько сот человек нищих было накормлено поминальным обедом в память покойной, и все эти обряды решено выполнять ежегодно. В день годовщины её смерти число накормленной нищей братии возросло до 3000 человек; а в отчётах журнала «The Theosophist» значится, что на проценты собранного в Цейлоне в память Блаватской фонда будут воспитываться на вечные времена три сироты, – это стипендии имени «Н.Р.В.».
Вообще, в память её, в разных частях света учреждено много благотворительных и полезных дел, – уж не говоря о множестве новых ветвей Теософическаго Общества, которые то и дело избирают инициалы её своим наименованием. В Англии, Америке и Индии имя этой русской женщины пользуется необычайным уважением и популярностью.
Уж хотя бы за это соотечественники её не поминали этого имени только лихом!.. Православные люди могут осуждать её во имя христианства; можно, без сомнения, не симпатизировать её, отчасти пантеистическому, учению; но нельзя оскорблять женщину, сумевшую возбудить такое громадное умственное движение, такой великий подъём нравственности и духовных сил десятков (если не сотен) тысяч людей, пропадавших от материализма нашего века, бесправно затрагивая её частную жизнь и обзывая её кличками – «шарлатанки, воровки душ, обманщицы и фурии»...
Да падут эти постыдные клички на голову их автора, мнящего себя праведником, имеющим право раскапывать чужие жизни, бросать на других тень позора, не задумываясь о собственном прошлом... Я уверена, что большинство русских людей отвергнуть и клички эти, и его наветы и охотно присоединятся к пожеланию одного высокоразвитого духовного лица, сказавшего в утешение близких её Е. П. Блаватской, оплакивавших смерть её и её личные религиозные заблуждения, эти истинно христианские слова:
«Господь истины – помилует и простит ей все её прегрешения за то, что она, по крайнему разумению своему, – всегда и неуклонно стремилась к благу истины».
Это слова, достойные пастыря единой истинной Христовой церкви, и ими я закончу свой ответ в защиту сестры моей.
С.-Петербург. Январь. 1893.
Сноски
- ↑ «Разоблачённая Изида». – Ред.
- ↑ «Тайная Доктрина», «Ключ к Теософии», «Голос Безмолвия», «Жемчужины Востока», «Теософский словарь». – Ред.
- ↑ Газ. «Новости». «Чужие мнения о русской женщине».
- ↑ Психологические трюки (англ.). – Ред.
- ↑ Имею письменные доказательства в верности моих переводов от лиц, писавших статьи. Об этом речь впереди.
- ↑ Конец века (фр.). – Ред.
- ↑ Жребий брошен (лат.). – Ред.
- ↑ Моя линия поведения резко очерчена (фр.). – Ред.
- ↑ Инцидент Соловьёва (фр.). – Ред.
- ↑ Мне очень жаль, что я не могу по размерам статьи писать свободно всё, что могло бы привести в пользу сестры моей. Иначе я непременно перевела бы сюда прекрасное письмо графини Адемар из «Люцифера» за июль 1891 г., которым она чествует память Е.П.Б[лаватской], напоминая м-ру Джаджу о «чудных двух неделях», проведённых ими в Enghien, в гостях у неё.
- ↑ Это тот самый Эветт, магнетизёр и друг бар. Дю-Поте, которого г. Соловьёв так язвит на стр. 75-77.
- ↑ Альбом для газетных вырезок (англ.). – Ред.
- ↑ Фокуснических (англ. prestidigitator – фокусник). – Ред.
- ↑ Всё-таки (фр.). – Ред.
- ↑ Пособник, приспешник, единомышленник (фр. acolyte). – Ред.
- ↑ Очевидно это ответ на письмо Е.П.Б[лаватской], помещённое на стран. «Русского вестника» (за май – если не ошибаюсь), где она спрашивает: «Прочёл ли он перевод “[Разоблачённой] Изиды”?».
- ↑ Честная ложь – самый худший образец лжи (англ.). – Ред.
- ↑ Промах, оплошность (фр.). – Ред.
- ↑ Добрая, добрая как хлеб (фр.). – Ред.
- ↑ Оговариваюсь: кисейными не я признаю их. Я верю в возможность их существования.
- ↑ Е. П. Блаватской
- ↑ Герцогиня де Помар всю жизнь была глубоко предана моей сестре; но в то время отказалась от Теософического Общества именно потому, что авторитет и вера в Блаватскую, в парижском кружке, были, временно, успешно подорваны интригой её врагов.
- ↑ Олкотт и поныне в наилучших отношениях с герцогиней.
- ↑ Кому?.. В России, где и теперь совсем не знают и не интересуются теософическим делом.
- ↑ И г. Соловьёву даже невозможно, потому что пришлось бы сознаться в своей собственной деятельности и двойной, неблаговидной игре.
- ↑ До чего?.. До полного изобличения виновности Е. П. Блаватской – или до получения от неё того, чего добивался г. Соловьёв?.. Вот в чём (гамлетовский) вопрос!
- ↑ С любовью (лат.). – Ред.
- ↑ Здесь таким документам не место, но они у меня сохраняются, как и все письма, мною здесь приводимые.
- ↑ Times «The Great Mare’s Nest» – by An. Besant. И другие, выше указанные статьи.
- ↑ Непреодолимые обстоятельства (фр.). – Ред.
- ↑ К вящей славе Божией (лат.). – Ред.
- ↑ Часть этих писем Кут Хуми, переведённых и изданных Синнеттом отдельной книгой, сам Вс. С. Соловьёв читал в Париже и «весьма одобрил» – как им самим заявлено.
- ↑ Те самые конверты, которых, если верить г. Соловьёву, он нашёл целую пачку в шкатулке Е. П. Блаватской, от которой она сама ему дала ключ (?!). Вот-то была полоумная!!!
- ↑ Выговор, внушение (фр. réprimande). – Ред.
- ↑ Человеку свойственно ошибаться (фр.). – Ред.
- ↑ Действительный статский советник. – Ред.
- ↑ Поступки (фр.). – Ред.
- ↑ Дело ген. Комарова при Кушке.
- ↑ Совсем без гроша (фр.). – Ред.
- ↑ Базарная торговка (фр. poissarde).– Ред.
- ↑ Паршиво проведённые четверть часа и больше ничего (фр.).– Ред.
- ↑ Расскажите кому-нибудь другому (фр.). – Ред.
- ↑ Карманник, воришка (англ.). – Ред.
- ↑ В статье моей, в «Nouv. revue» (окт. 1892 г.), m-me Adam переменила слова – «je suis en grande amitié <я в большой дружбе>», – на простое заявление: «Je suis en relations aves m-me Adam <Я знакома с мадам Адам>», на том основании, говорит она, что «не могла состоять в дружбе с человеком, которого видела всего два раза» и который ей «с первого взгляда внушил далеко не симпатию»...
- ↑ Н. Ф. Фадеева, тётя Е. П. Блаватской и, по всей видимости, руководитель первого в России Теософского Общества в Одессе. – Ред.
- ↑ Г. Цорн, секретарь Теософского Общества в Одессе. – Ред.
- ↑ «Предостережение» следовало назвать мольбой. Сестра умоляла его ничего не рассказывать о слышанном им в Вюрцбурге; а он не только растрезвонил, но и прибавил того, чего никогда не бывало... Вот пагубная фантазия и привычка писать романы!
- ↑ Этого несчастного ребёнка (фр.). – Ред.
- ↑ Шутник (фр.). – Ред.
- ↑ Резкая перемена (англ.). – Ред.
- ↑ Следовательно (лат.). – Ред.
- ↑ Это в ответ на мои вопросы о сестре: неужели одно нам очень близкое лицо рассказывало обо мне те «ужасы и клеветы», о которых мне проговорился г. Соловьёв... Но так как это дело, прямо сестры не касающееся, то дальнейшее о нём я буду пропускать.
- ↑ Талантливый дворянин (фр.). – Ред.
- ↑ Имею доказательство, что г. Соловьёв говорил это, – в собственном его письме. В. Ж.
- ↑ По принадлежности (фр.). – Ред.
- ↑ Если б г. Соловьёв не оскорблял памяти сестры моей многими намёками на частную жизнь её в молодости, – отнюдь не подлежавшую его разбору, – я пропускала бы такие слова её о нём и сама не касалась бы его частных к нам отношений. Но своей несдержанностью он отнял у меня право щадить его.
- ↑ Ненавидят тех, кому делали боль без причины (фр.). – Ред.
- ↑ В этом случае, ошибка Гебхарда, писавшего m-me Морсье, будто бы я читала у г. Соловьёва и перевод письма сестры моей – понятна: она основана на моей твёрдой уверенности, что оригинал не сходен с переводом. Но меня несказанно удивляют насмешливые укоры г. Соловьёва в том, что я это сообщила сама. Если б я читала перевод, то не недоумевала бы, какое в нём искажение, а прямо указала бы на него. Кому же, наконец, лучше самого г. Соловьёва может быть известно, что я тогда же опровергла это ненамеренно-ложное показание? Он, которому Морсье показывала все свои письма, не мог не прочесть нижеследующего моего письма к ней, – писанного из Эльберфельда, в июне 1886 г.; к счастию, я сохранила копию и привожу из него отрывки, касающееся дела, для желающих убедиться в факте. Вот оно, в переводе.
«Я только что написала г. Гебхарду, прося его исправить ошибку, которая вкралась в то письмо его к вам, которое вы отослали г. Соловьёву. Вероятно, моё глубокое убеждение в том, что должно быть разногласие между переводом и русским, настоящим письмом сестры моей к выше названному господину, заставило Гебхарда думать, что мне были показаны им оригинал и вместе перевод. Нет к несчастию! как вы это знаете, г. Соловьёв не имеет копии с французского перевода, который находится в ваших руках... Вследствие этого я не могла ни читать его, ни говорить, что его читала.
Дабы не было впредь недоразумений на счёт этих слов, но поводу этого несчастного дела, прошу вас принять к сведению мои личные о нём мнения и показания: 1) Я читала настоящее письмо сестры моей и утверждаю, что в нём нет никаких признаний в обманах, фокусах или отречений от Махатм. Чтение его меня положительно убедило, что смысл перевода, сделанного в Париже, разнится от настоящего текста. 2) Я всегда утверждала, что сличение письма с переводом приведёт к желательному выяснению ошибки; но к несчастию, г. Соловьёв отказывается прислать мне копию с письма и этим самым лишает меня возможности устроить дело мирно, выяснив недоразумение… 3) По моему искреннему и глубокому убеждению, настоящее письмо г-жи Блаватской к г. Соловьёву, – никогда не могло бы подать повода к обвинениям (в отречении от существования Махатм), которых она сделалась жертвой...
Если же вы не думаете, что я права, указывая на ошибочный перевод, вы бы крайне меня обязали присылкой засвидетельствованной копии с него. Ваш и г. Соловьёва отказы подвергнуть сличение копии с письма и перевода могут лишь усилить неприятные для вас заключения, что в существенной их разноголосице, существует преднамеренное зложелательство.
Прошу вас принять уверение и пр.
В. Желиховская».
Почему бы, кажется, г. Соловьёву не привести на страницах «Русск. вестника» и этого письма г-жи «Игрек»?.. Да кстати и перевода с письма г-жи Блаватской?.. Того самого перевода-невидимки, который так хорошо хранится у г-жи де Морсье, что его никому не показывают, – как далее будет доказано.
- ↑ Очевидцы сцены прочтения письма рассказывают её совсем иначе: письмо не было распечатано Блаватской, говорят они, а пришло в разорванном, истерзанном виде, с вывалившейся из него фотографической карточкой мисс Л. И никогда Блаватская не бранила и не осуждала Мохини в таких выражениях, какие описывает Соловьёв.
- ↑ Спешу оговориться: я благословила одну невесту. г. Соловьёв ни за что не согласился, чтоб я его перекрестила образом, что меня крайне огорчило: я думала, что эта странность у него прошла.
- ↑ До появления письма в печати я думала, что, вероятно, во французских глаголах упущены были «s» на концах, что превращало бы conditionnel в affirmative <условное наклонение глагола в утвердительное>. Но теперь думаю, что последние строки переведены верно, но пропущены слова начала: «Я даже пойду на ложь» и пр.
- ↑ Мадам Блаватская отвергала Махатм (фр.). – Ред.
- ↑ Немного подозрительная (фр.). – Ред.
- ↑ Когда Гебхард ездил, во время самого происшествия, за сведениями в Париж к Бессаку, то последний говорил ему тоже, что ровно никаких признаний в измышлении Махатм в русских письмах Блаватской не было; что, впрочем, он их не читал целиком, потому что г. Соловьёв всех писем ему не показывал, «а лишь некоторые строки (certains passages)». За сим Бессак прибавил, что после чтения засвидетельствованного им письма и перевода «его личное мнение о г-же Блаватской ни мало не изменилось»... Это письмо Гебхарда от 27 июня 1886 г., из Парижа, у меня в целости. Надо принять во внимание, что Бессак тогда был моложе и, кроме того, происшествие это была недавнее, а потому показания его Гебхарду, с места описанные последним, имеют большое значение и вес.
- ↑ Заговор (фр. complot). – Ред.
- ↑ Прошу извинения у г. Б. за то, что привожу моё письмо к нему и вообще его имя; но надеюсь, что так, как он позволил упомянуть о нём г. Соловьёву, то не откажет и мне в необходимости сделать то же.
- ↑ Убедительный довод на существование (фр.). – Ред.
- ↑ По свидетельству многих книгопродавцев, приходивших ко мне за сведениями о том, откуда можно выписывать сочинения сестры моей и вообще теософические издания, а равно и по количеству запросов частных людей о том же, я вижу, что сенсационная статья г. Соловьёва достигла результатов, совершенно противоположных его благим целям: никогда теософией так не интересовались в России, как теперь, – благодаря его стараниям.
- ↑ Не в обиду будет сказано (фр.). – Ред.
- ↑ У него только что скончалась жена.
- ↑ В подлинном письме сказано: «ce miserable <этот несчастный>». И вообще в нём выражения до того беспощадно оскорбительны, что я нахожу необходимым их сильно смягчить для печати.
- ↑ Замечания в скобках принадлежать мне. В. Ж.
- ↑ Это ложь (англ.). – Ред.
- ↑ (Обвинительницы Мохини). Друзья эти, значит, были Морсье и г. Соловьёв? Как же он говорит, что никакого участия в ней не принимал?
- ↑ «The Theosophist»; «Lucifer»; «The Path»; «Theosophical-Siftings»; «Light»; «The Theosophical Forum»; «Vahan»; «Buddhist»; «Pacific Theosophist»; «New Californian»; «Anti-Caste»; «Pauses» – и др. английские, индийские и американcкие. «Lotus Bleu»; «Aurore» – и др. французкие. «Sphinx» – немецкй. «Estudios Theosophicos» и «El Silencio» – испанские. «Theosofic-Tidscrift», – шведский и пр. Не считая тех, которые печатаются в Индии и на Цейлоне на местных наречиях.
- ↑ Затруднение в выборе (фр.). – Ред.
- ↑ Как тут не вспомнить слов самой Е. П. Блаватской в одном из писем её ко мне:
«Православная Россия счастлива тем, что крепки её устои; что не лишилась она идеалов чистого христианства!.. Но на Западе, в особенности в Англии, где рутинный материализм науки и безумия 666-ти сект убили всякую веру в духовные задачи бытия, теософия – спасительна!.. Они требуют научных доказательств преобладания духа над материей – и она им даёт их».
- ↑ Эйч-Пи-Би, – английское произношение букв Н.Р.В. – было и есть наименование сестры моей, во всём теософическом мире. В Англии, близкие люди, всегда называют друг друга своими инициалами.
- ↑ «What H.P.B. did for me». Lucifer. July. 1891. Отрывки.
- ↑ Е. П. Блаватская завещала, чтобы тело её было предано не земле, а огню. Оно было сожжено в лондонском крематории, 11 мая 1891 года.
- ↑ Главная квартира Теософическаго Общества в Лондоне состоит из трёх домов, выходящих на две улицы, с палисадником и большим садом внутри.
- ↑ При жизни сестры моей в Америке было не более 50 ветвей Теософическаго Общества; теперь их более 70-ти и все последние носят имя или фамилию её: «Blavatsky Lodge» или «Branch. H.P.B’s Section» и т. д.
См. также
- Другие публикации:
- Theosophy.ru
- YRO.narod.ru
- H. P. Blavatsky and the Modern Priest of Truth: Reply of Mrs. Ygrek (V. P. Zhelikhovsky) to Mr. Vsevolod Solovyov -- перевод на английский
- Reply of Mrs. Ygrek (V.P. Zhelikhovskaya) to Mr. Vsevolod Solovyov -- ещё один перевод на английский